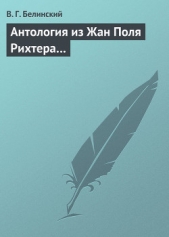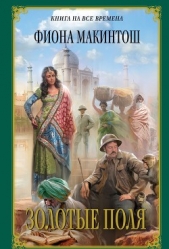Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Татьяна Сергеевна, твёрдо веровавшая в силу науки и в невежество мужиков, считала своё миросозерцание совершенно гарантированным после того, как она с наградой окончила своё образование в известном учебном заведении, где воспитываются дети «особ», и получила на пергаментном листе с красивою гравюрою, изображавшей глобус, циркуль, сову и все эмблемы трудолюбивой мудрости, аттестат за подписью едва ли не двадцати пяти членов совета и печатью училища, с отличною отметкою в «зоологии, ботанике и минералогии с основными началами сельского хозяйства». Она знала существование поговорки: «Век живи, век учись», и даже любила повторять её, но в душе своей предполагала, что поговорка эта относится исключительно к мужикам, которые не учатся нигде. Благородные же девицы, по понятию Татьяны Сергеевны, должны «заканчивать своё образование к восемнадцати и девятнадцати годам, когда им нужно выходить замуж», и когда уже наступает пора «прилагать свои знания к жизни». К замужеству они должны уже быть вполне оснащены: мило играть на фортепиано, говорить на иностранных языках, уметь поддержать даже и серьёзный разговор, и прочее, и прочее. Для чего же их и пичкают в молодости разными литературами, всеобщими историями и географиями!
Татьяна Сергеевна, быть может, должна бы была сообразить, что даже вышиванье гладью и светские приличия не дались ей сразу, что её подготовляли к этим искусствам издавна и постоянно. А между тем познание природы и умение обращать её разнообразные силы к разнообразным целям людской выгоды, в чём состоит сущность хозяйственного искусства, — ей представлялись какими-то от века присущими человеку качествами, для обладания которыми достаточно быть барыней или барином. В самом деле, может ли быть что-нибудь затруднительное или серьёзное в этом искусстве, когда всякий безграмотный крестьянин хозяйничает себе преспокойно, выводя телят, собирая рожь и гречиху? Она положительно была убеждена, что все эти семидесятилетние Иваны Мелентьевы, рождающиеся и издыхающие на поле, воспитывающиеся на ворушках, в одной тесной семье с лошадью и коровой, остаются в своём жалком экономическом состоянии и при своих первобытных хозяйственных предрассудках только потому, что образованные пансионерки или учёные студенты из благородного класса не раскрыли им глаза насчёт истинных приёмов хозяйства. Управляющий, отставной капитан Толстиков, из соседних мелкопоместных дворян, был прогнан в двадцать четыре часа, к большому горю кабатчика, который уже несколько лет привык тащить из спасской экономии варёным и жареным через своего приятеля капитана, «завсегдатая кабацкого». Люди до того привыкли видеть с утра и до обеда у дверей кабака пегого мерина в беговых дрожках, что когда не случалось встретить его там, говаривали с некоторым соболезнованием:
— Что же это капитана нашего у обедни нет, али ещё со вчерашнего дня не опомнился?
Сам же капитан Толстиков был рад-радёшенек, что энергическая генеральша судила его полевым судом и выпроводила восвояси без перемерки амбаров, без всякой сдачи и проверки. Он хотя и не знал точных размеров недочёта в деньгах, зерне, муке, скоте и всевозможных вещах, искренно уверенный, что в его счетах сам «чёрт ногу сломит», однако не мог не чуять в общих чертах, что недочёт этот был очень велик и мог быть без труда обнаружен даже невинным младенцем. Капитан Толстиков, при всех человеческих слабостях своих, слишком долго был знаком с ответственностью солдатской спины, чтобы не ждать какой-нибудь скверной штуки за свои тоже очень скверные штуки; он сам добросовестно сознавал себя виновным и давно удивлялся внутри своей души, за что это его Бог милует и почему до сих пор генеральша не засадит его в кутузку. Когда пришла весть о приезде Обуховой в деревню, капитана Толстикова стало просто ломать, да не на шутку, а так, словно кто хотел повывернуть ему рёбра.
Когда кабатчик Савич пришёл к нему раз попросить овса на семя, он его вгорячах с крыльца спустил и клял на всех чертях. Зато в то утро, когда об был лишён своего звания и власти, капитан Толстиков чувствовал себя в состоянии такого душевного покоя и чистоты, что сам уподоблял себя «невинному младенцу», беседуя о своём падении с постоянным собутыльником своим отцом Варфоломеем.
— Ныне отпущаеши раба твоего по глаголу твоему с миром! — говорил он в искреннем сердечном умилении, прихлёбывая поповский травник.
— Счастливый твой бог, Гаврилыч, — покачивал головою поп. — Дёшево ты отыгрался от барыни; а сказывали — характерная.
— Бог невидимо покрывает, отец Варфоломей, — торжественно говорил капитан, простирая руку к небу. — Бог, иже и малыя знаешь? Хоть я, положим, и много виноват, отец Варфоломей, перед Богом и перед хозяевами своими, положим, я нечестивый наёмник… не таюсь… но я сердцем прост и незлобив, и к тому же сирота, — слезливо прибавлял капитан, которого бронзовое лицо, засиженное веснушками, как воробьиное яичко, едва выглядывало из растрёпанных кустов рыжих бакенбард и усов. — К тому ж сирота! А Бог любит сирых и простых сердцем!
За управляющим была послана телеграмма в агрономическую контору в Москве. Требовалось прислать «благонадёжного агронома, стоящего в уровень с современным развитием сельскохозяйственной науки на Западе и практически знакомого с условиями хозяйства в чернозёмной полосе России; жалованья от 500–600 рублей в год, на полном содержании».
Но пока шла телеграмма, генеральше доложили, что её желает видеть какой-то мужик. В передней стоял высокий и бледный, от худобы сгорбленный старик с важным и степенным видом, в плотно застёгнутом крытом тулупе. Он смотрел не столько мужиком, сколько монахом.
— Здравствуйте, барыня, с счастливым приездом, — встретил он генеральшу, отвешивая неспешный и глубокий поклон.
— Здравствуйте, старичок, что вы? — спросила ласково генеральша.
— А зовут меня Ивлий Денисов, Одиноких прозвищем, — серьёзно и уверенно говорил старик. — Я твой сусед, из Прилеп, однодворец. Проведал я, что ты сокрушаешься сердцем по своём добре, что имение твоё расхитили наёмники лукавые, а я к этому делу привычен, имениями управлять. У князя Баратова пятнадцать лет всем именьем правил. Делов у меня по своему дому теперь нет, сынам сдал, так будто скучно без дела маяться.
Ивлий остановился и с суровой важностью наставника, а не с миною просителя, глядел прямо в глаза Татьяне Сергеевне.
— Так ты… вы хотите наняться? — несколько смущённо спросила Татьяна Сергеевна.
— Что ж? Коли желанье твоё есть и Бог тебе кладёт на ум, бери меня к себе, — так же серьёзно продолжал старик. — Возьмёшь — счастлива будешь, Бога поблагодаришь!
— Вы на какую же должность нанимаетесь, старичок?
— На это твоя воля. Ты в своём доме хозяйка. Только я человек золотой; узнаешь меня — от меня не отстанешь. Потому я ругательством бессовестным отродясь не ругаюсь, травы поганой не курю, об водке заклятие дал, на красу девичью не смотрю, убоины в мясоед не нем. Даже в Светло Христово Воскресенье рыбою разговляюсь… Вот я какой!
Татьяна Сергеевна чувствовала себя не совсем ловко перед этим суровым стариком. в котором было так мало подобострастия и так много самоуверенности. Она никогда не встречала в среде крестьян такого типа, не понимала его и инстинктивно боялась.
— Нонче народ слаб стал, — поучал старик строгим тоном. — Ругательники и трубкокуры, и винопийцы, и сердцем лукавы… Нонче уж нету настоящих хозяйственных работников, как по старине, чтобы о хозяйственном добре порадел, на деле попотел. Хоть бы и мои теперь сыны… таить и их не хочу… блудные нонче люди, неистинные!
— Вы, должно быть, хорошо знаете сельскохозяйственную часть, старичок? — спрашивала Татьяна Сергеевна, чтобы сказать что-нибудь. — Вам который год?
— А стар я, давно Богу молюсь. Поди, не семьдесят пятый ли год идёт, али этак. Только ты, барыня, нанимаешь не старого, а молодого. У меня сон короток: с зари на ногах и зари не войду. У меня порядки строгие, сам я, начальник, не сплю и подвластный мне не смей спать… по закону… А что по хозяйству ты говоришь, так ты сложи свои барские руки да поклонись Ивлию Денисову, только твово и дела, и горя. Я настоящий о хозяине своём печальник! Мне Бог помогает за мои молитвы и прощенье, благодарю моего Создателя; у другого где недомер, усышка, у меня всё будет лишнее… да пример… Потому мышь не смеет трогать. Опять-таки червь на скотине, что на свинье, что на овце, ни в кои веки не может; молитву такую знаю!