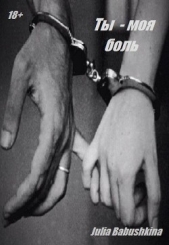Чего не было и что было

Чего не было и что было читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.
Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стихи в журнале «Тропинка» бывали у нее прелестные.
Последние годы века мы часто ездили за границу. Во время одной из этих отлучек умер (летом 1900 г.) Владимир Соловьев. Поликсена говорила со мной об этой смерти по-своему сдержанно и просто. Известно, что умер он не от какой-нибудь болезни, а просто потому, что «весь себя изжил телесно», т. е. как бы горел все время и наконец догорел. «Католики будут говорить, что он перешел в католичество, а он никуда не переходил, никуда и не мог перейти; он был в той церкви, которой еще нет. Из нее и переходить некуда».
Михаила Соловьева (любимого брата Поликсены, о нем она часто говорила) мы мало видели: раз, когда он был у нас в Петербурге, и потом в один из наших приездов в Москву, в его квартире на Арбате (в том же доме, в другом этаже, тогда жили и Бугаевы, — Боря Бугаев — Андрей Белый от Соловьевых почти не выходил). В этой семье, тоже явно «талантливой», было что-то неуловимо странное, может быть — предчувствие трагедии.
Ранним вечером, весной, звонок. Выхожу в переднюю. Наталия Ивановна Манасеина, бледная, в волнении.
— Мы должны были сегодня к вам, но мы сейчас, с Сеней, едем в Москву. Они оба умерли.
Кто? Как оба?
Михаил Сергеевич умер, и она застрелилась.
Когда, после возвращения из Москвы, мы с Поликсеной увиделись — она была спокойна. Только лицо потемнело, и что-то в нем неуловимо — и уж навсегда — изменилось.
Лишь вдолге узнались подробности. Слабый вообще, Михаил Сергеевич не выдержал последствий гриппа — воспаления легких… Ольга не отходила от него до последнего вздоха. Потом, едва видя, куда идет (чуть не вошла в зеркало вместо двери), добралась до своей комнаты, выпила отравы (зеленой краски какой-то), приложила револьвер к виску и спустила курок. Выстрел раздробил череп.
Хоронили вместе, ее с обвязанной головой.
— Как же… не подумала она о сыне? — спрашиваю неуверенно.
Поликсена не отвечает. Она, такая христианка, слишком понимает тут язычницу Ольгу. Мысль о сыне ей, вероятно, и в голову не пришла, как будто его и не было. Понимаю все это и я. И мы молчим.
Кстати, о Сереже Соловьеве, так рано пережившем трагедию. Через несколько лет — он близкий друг Блока и Андрея Белого. Поэт, выпустил книгу стихов (талантливых, конечно). Женился на сестре первой жены А. Белого. Потом сделался православным священником. Потом (уже во время революции) перешел в католичество. Потом будто опять в православие. Последнее по слухам, за которые не отвечаю. А в дальнейшем прекращаются и слухи.
ТО, ДА НЕ ТО
Если время остановилось (как иногда кажется) — то это было теперь. Но если оно не остановилось с тех пор, как началась эмиграция, — надо сказать, что этот вечер был давно. При малейшем внимании и сравнении увидишь давность. По кое-каким признакам год можно определить.
Париж, май, «литературный» эмигрантский вечер в каком-то сарайном (совершенно сарайном) помещении от какого-то кафе, довольно темном, столики без скатертей, скамейки. С участием «молодежи» эмигрантской, — ну, какой там эмигрантской! Просто петербургской еще. Полная эмигрантская неустроенность, наивность, невинность. Даже в том, что были приглашены какие-то французские «представители» молодежи (один был привезен мной, — и как же он мне надоел! [46]). Чуть ли не желали показать этим «представителям» (наши представители), что мы тоже не стеклом утираемся, что у нас была «Бродячая Собака» [47], которую ничего не стоит перенести в Париж. Это, — а также весь образ того времени и его обстоятельств, — будет ясен из моего стихотворения. На вечере прочитанного (я его приведу ниже), и из кучи всяких мелочей: например, установки молодыми нашими распорядителями двух суковин у дверей, налево и направо, с надписью «вехи сменять строго воспрещается».
Собственно, представителей нашей молодежи было два, и те вовсе не настоящие, в смысле «Бродячей Собаке». Настоящих «собачистов» еще тогда в помине не было. О старших и говорить нечего (мы, например, на «Собаку» в СПб-ге всегда смотрели из определенного отдаления, с определенными о ней мыслями).
Из двух наших «представителей» один музыкант был мой большой приятель, деятельный член моих «воскресений» и даже секретарь Рел. Фил. О-ва (хотя к религии отношения имел мало) [48]. Другой [49] поэт был столь юн, что и не мог бывать в СПб-ских «обществах», когда они существовали. И вот, кстати, знак, что с того вечера время не остановилось: юный теперь давно женат, отец семейства и сотрудник французских газет; а не юный — где-то в Новом Свете и годы, как заделался американским подданным.
Стихотворение мое прямо было о Собаке:
Можно сказать давность! Время-то эмиграционное не только не остановилось — годы удвояются, утрояются, если присмотреться, как все (и мы сами) изменилось…
Но кое-что — тоже мелочи твердо осталось на местах. Эти твердые мелочи даже особенно изумляют, когда уж поймешь неостановимый бег времени.
Вечер мне и пришел в голову из-за одной такой не изменившейся мелочи.
Юный (тогда!) поэт сочинил куплеты, которые молодой (тогда!) музыкант положил на музыку. Вдвоем они их исполняли. Куплеты были забавны. Об эмигрантской «прессе». О двух газетах (их тоже было две: «Общее Дело» и «Последние Новости»). Одна, в куплетах, называлась «Последнее Дело» (бурцевская), другая — «Общие Места» (милюковская).
Что там ни говорилось в буйном «Последнем Деле» — «Общие Места» отвечали передовицами, которые, в куплетах неизменно начинались:
«Мы не раз указывали».
«Мы давно отметили».
«Мы все время предупреждали».
«Мы очень рады констатировать».