Избранное. Семья Резо
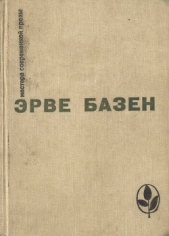
Избранное. Семья Резо читать книгу онлайн
В сборник произведений одного из крупнейших писателей и видного общественного деятеля современной Франции, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», вошла трилогия «Семья Резо». Романы трилогии — «Змея в кулаке», «Смерть лошадки» и «Крик совы» — гневное разоблачение буржуазной семьи, где материальные интересы подавляют все человеческие чувства, разрушают личность. Глубина психологического анализа, убедительность образов, яркий выразительный язык ставят «Семью Резо» в ряд лучших произведений французской реалистической прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все эти причины — впрочем, хватило бы и одной, первой, — не только вынуждали меня огласить наш брак, но и не возражать против церковных обрядов, словно все это было в порядке вещей. Добавим в мое оправдание, что ко всему этому примешивалась тоска по абсолюту, желание придать вес своим поступкам: в свете этих соображений я способен был венчаться одновременно у кюре, у пастора, у православного священника, у имама и у языческого жреца, лишь бы мой брак был законным в глазах всех богов и согласно всем обрядам. Однако, как я уже сказал, я не был собой доволен. Я испытывал странное чувство неловкости: делать что-либо наполовину никак не в моем характере. Не люблю я также действовать в силу второстепенных причин: причинять неприятность мадам Резо, делая приятное Монике, — этого мне было слишком мало. Жалкие мотивы, в сущности, они лишь кое-как прикрывали компромисс во имя застарелой ненависти и юной любви.
Вот почему я шагал одновременно счастливый и надутый под мелким дождичком, чувствуя, как в желудке у меня булькает шипучка, изображавшая шампанское, и ведя под руку Монику; а ее тетушка семенила вслед за развевающимся белым тюлем и пыталась остановить такси, чтобы поскорее попасть на вокзал. Я шел, твердя про себя, что единственно первое «да» имело законную силу и что бог — если богу есть до этого дело — не слишком должен быть польщен вторым «да», небрежно брошенным в лицо викарию, который, торопясь закончить службу, бормотал что-то по-латыни.
Но самым главным «да» было и остается третье.
Не надейтесь, что я пущусь в подробности. Я до глубины души презираю тех новобрачных, которые между двух рюмочек аперитива (или на двухстах страницах романа) расскажут вам, как они опрокинули мадам на постель, сообщат, простофили, где и сколько у нее родинок, опишут линию ее бедер, а в конце всего поведают о своих весьма сомнительных рекордах. Когда-то утверждали, что мужчина женится, чтобы положить конец определенному периоду своей жизни, а потому женился он поздно, утвердив сначала на других свой петушиный престиж, о собственной жене он говорил в завуалированных выражениях и каким-то каплуньим голосом. Думаю, что мое поколение, которое женится молодым, устремляется к браку как к некоему началу: оно обращается с законными женами как с любовницами и гордится скрипом пружинного матраса.
Я намерен уважать свою жену. Тут не просто капитуляция перед романтикой или даже перед целомудрием. Напротив, тут упорное неприятие всех тех мерзких подробностей, что несет с собой совместное существование и слишком будничная близость. Уважать женщину — это значит воевать с женщиной, не позволять ей распускаться (а ведь один бог знает, как склонны женщины распускаться, коль скоро они имеют право каждый вечер раздеваться при вас!). Требовательность, к которой приучила меня моя мать, возможно, переменила знак, но осталась все такой же настоятельной; я не вступлю в сделку с любовью, как не вступал в сделки с ненавистью. И тут нужен высокий класс.
Любовь, ненависть — все это мифы. Монтескье говорил о счастье, что оно определенная «способность». Способность к определенному стилю жизни. Любовь не этот стиль, а лишь один из этих стилей. Самое отвратительное то, что слово «любовь» применяют ко всему на свете и его нельзя заменить никаким другим словом или перифразой (нежность, дружба, привязанность, страсть и так далее, и тому подобное не заменяют его и лишены гибкости). Святая любовь, сыновняя любовь, любовь к отчизне, любовь как таковая… Есть ли у них общий знаменатель? Все отвлеченные понятия отчасти обман, а уж данное — прямая измена. Разумеется, за неимением лучшего я тоже буду его употреблять, даже им злоупотреблять, ибо предательства такого рода нам привычны, более того — дороги. Но давайте условимся: между Моникой и мной царит или будет царить некое состояние благодати, к которому не приклеишь ярлыка.
Повторяю: не ждите подробностей. В свое время, лежа с Мадлен, а потом и с другими, я думал: мужчина, оскверняющий женщину, тем самым оскверняет отчасти и свою мать. Но теперь я знаю, что презрение не самое страшное оружие: уважение, которое мы питаем к одному-единственному существу, по сути дела, куда более худшее оскорбление всем тем, кого мы не уважаем. Я не верю в массовое искупление, но вполне возможно, что каждый находит свое личное — пусть маленькое — и Моника для меня не что иное, как искупление.
Не что иное? По крайней мере мне этого хотелось. Почему мне так трудно отвлечься от твоего пояса, от этого пояса, который, следуя моде, может передвигаться чуть ли не от подмышек до бедер, но во всех случаях перерезает женщину надвое? Почему я был смущен, открывая дверь? Мою дверь. Нашу дверь. Я уступаю тебе дорогу. Кладу руку на твое плечо. Чувствую, как шевелится у меня под пальцами твоя лопатка. И я улыбаюсь потому, что твоя лопатка коснется арены, как у побежденного борца. Неужели я так никогда и не отделаюсь от этой столь враждебной жизненной силы? Ты смущена гораздо меньше, чем я, ты, моя вертикальная, входя в эту комнату, где стоит слишком горизонтальный диван. Женщина с головы до ног, моя единственная женщина. Для тебя все просто, и твоя чистота ко всему приспособляется. А моя парализует пламенное желание! Вопреки закону и пророкам, давшим мне на тебя все права, вопреки твоей доброй воле, которая слабо сопротивляется, я колеблюсь, я медлю сделать необходимые движения, которые напоминают приготовления палача. Деликатность? Не верю этому! Я длю тебя, моя мышка. Меня разрывают на части желание наброситься на тебя и страх тебя задушить. Наконец (но никому этого не повторяй: больше всего я боюсь иметь снобистский вид), нынче вечером во мне живет добропорядочный малый, который все принимает всерьез, который не намерен торопить обряды, как тот чиновник и тот викарий. Любой торжественный ритуал не терпит суеты, и твое третье «да» стоит церемонии.
В этот хрупкий час рассвет, забренчав жестяными мусорными ящиками, удивился, обнаружив на коврике возле постели избыток розового белья, столь же необычного здесь, как избыток нежности в моей душе. Я не смею встать, так как на мне только пижамная куртка: мне понадобится еще не меньше полугода, чтобы дойти до того супружеского простодушия, когда без боязни показываешь свои слишком худые ноги.
А ведь Моника еще спит, раскинувшись на постели, и веки ее пришиты к щекам стежками ресниц. Она спит с непоколебимой убежденностью куклы, трогательная до слез, наивная или же чувствующая себя уверенной под охраной своего обручального кольца. И кроме того, моего кольца, хотя рассвет не подчеркивает этой детали, этого обстоятельства, которому следовало бы быть более наглядным, оставить свой стигмат, как красное пятнышко Шивы посреди лба. Она спит, она вдыхает свой сон, пьет воздух мелкими глотками, и горло ее возле впадинки чуть вздымается и опускается, как у лягушки-древесницы. Плед чуть сбился на сторону, зато одеяло туго натянуто, и я его не приподниму. Следует щадить свои глаза: в любви их одаряют всегда в последнюю очередь, но одаряют так обильно, что они пресыщаются первыми. Впрочем, взгляд — это ничто, если статуя не знает, что ею любуются. И наконец, ладони мои куда более требовательны, нежели зрачок: со вчерашнего вечера они узнали эти рельефы, которых отныне я сам ваятель.
— А ее-то ты знаешь?
Я произнес эти слова вслух и сам удивился. А ведь верно!
Я знаю ее совсем мало, эту незнакомку, которая и наяву, пожалуй, такая же молчальница, как во сне. За полгода беглых встреч она представала передо мной лишь как видение свежести. Случай, который дал мне ее и может отнять, он и есть случай. Неужели можно так дорожить чужой женщиной, для которой ничто ваши привычки, ваши воспоминания, ваши обиды? Наша близость не покоится на плотном слое прежней жизни, на этих обломках совместной истории, на семейном черноземе, который вскармливает и самые прекрасные, и самые жестокие побеги чувств. Разве не так, мадам Резо? Эта крошка, представьте себе, тоже зовется мадам Резо! Держу пари, что ей не так-то легко будет реабилитировать это имя, и я спрашиваю себя, сколько же потребуется ей времени, чтобы стереть ваш след в моей памяти, чтобы стать более значительной, более насущной для меня, чем вы… Но позвольте, позвольте! Вот она уже шевелится, и потягивается, и вкусно зевает, открывая белые зубы — прямое оскорбление для ваших пораженных кариесом корешков.


























