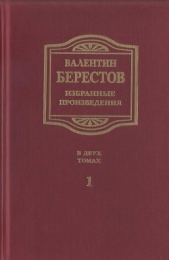Люди на перепутье

Люди на перепутье читать книгу онлайн
Когда смотришь на портрет Марии Пуймановой, представляешь себе ее облик, полный удивительно женственного обаяния, — с трудом верится, что перед тобой автор одной из самых мужественных книг XX века.
Ни ее изящные ранние рассказы, ни многочисленные критические эссе, ни психологические повести как будто не предвещали эпического размаха трилогии «Люди на перепутье» (1937), «Игра с огнем», (1948) и «Жизнь против смерти» (1952). А между тем трилогия — это, несомненно, своеобразный итог жизненного и творческого пути писательницы.
Трилогия Пуймановой не только принадлежит к вершинным достижениям чешского романа, она прочно вошла в фонд социалистической классики.
Иллюстрации П. ПинкисевичаВнимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не с того конца взялся Францек, вот и испортил себе карьеру в Улах.
От образка на перекрестке надо свернуть налево, к Верхним Нехлебам. Перед Ондржеем маячил путник, обычно встречающийся на всех дорогах; в одной руке посох, в другой — котомка. Он шел среди яблонь, клонившихся к земле, словно под тяжестью плодов. И только светло-голубая дымка вокруг похожих на скелеты голых деревьев и над кладбищем говорила о весне. Какая тишина! Проскрипели колеса телеги, спускавшейся с верхнего поворота, и снова стало тихо. Казалось, слышно было, как роются в земле кроты, как тает темнеющий снег, как текут под ним ручейки. Быки, пятнистые, как географическая карта, медленно тащились в гору. В их выпуклых глазах отражался еще не расцветший край. Перед первой хатой люди красили ульи, похожие на свайные постройки. Над обрывом сидел паренек и плел из ремешков кнут.
О, утраченные радости Льготки! Пение циркулярной пилы напоминало Ондржею о более прозрачном горизонте, чем мертвенное небо, висевшее над Нехлебами. Где-то в деревне жгли пырей, и дым свивался в черное воспоминание о пожаре в тринадцатом цехе.
Гуси вытягивали шеи и шипели на пришельца. У них были такие тусклые и сизые глаза, словно их уже зарезали. Нехлебскпе собаки метались за заборами, исходя яростным лаем. Особенно их волновал чемоданчик Ондржея. Из домиков выходили женщины в платочках и выплескивали из ведер грязную воду таким резким движением, как будто хотели отогнать чужака.
Наконец, свернув с дороги, Ондржей, такой нарядный, одетый с иголочки, очутился у ворот деревянного дома, который показался ему до неузнаваемости ветхим и почерневшим. Этот дом, еще темный от сырости, вынырнувший словно из волшебной сказки, сидел на мели сада, похожего на пруд, из которого выпущена вода. Ондржей пришел показать, чего он добился в жизни, какой из него вышел дельный парень и независимый человек. Ему вдруг стало жарко, и он поставил чемоданчик на землю. Сердце у него стучало так, что даже отдавалось в голове, будто ему снова было пятнадцать лет. Он поднял руку к старенькому, позеленевшему звонку и нажал его. Сейчас должен послышаться хриплый собачий лай, который неизменно следовал за звонком.
Но было тихо, ничто не шевелилось. Ондржей позвонил еще раз — ни одна живая душа не появилась. Сквозь решетчатую ограду из сада Ондржей видел метелки кустарника, кусты роз в соломенных чехлах, бочку под водосточной трубой. Заметив пустой гараж, он почувствовал непонятное облегчение при мысли, что, может быть, Гамзы все-таки не приехали, что Поланский не понял вопроса и Ондржей будет избавлен от мучительной неловкости, которая охватит его, когда он окажется лицом к лицу с пани Гамзовой, ради которой он пришел сюда. Думая обо всем этом, он просунул руку сквозь решетку, как это делал Станислав, и взялся за ржавый засов. Засов заскрипел, подался, и Ондржей вошел, перешагнув через пустой шланг, валявшийся на дорожке. Он заметил, что на него смотрят. За немытым окном первого этажа виднелось большое лицо, старое, как зима, сердито смотревшее на пришельца. Оно смотрело так же, как и в первый раз, когда они вечером подъехали к освещенному дому, как и всякий раз, когда они со Станиславом возвращались с прогулки, как и в последний раз, когда выносили Неллину мать, старую пани Витову — капитана этого корабля. Дом обветшал, опустел, стал нежилым и неуютным, но старуха не изменилась. Такие же у нее были каменные глаза и неприветливое мужское лицо. Казалось, что все эти пять лет прабабушка не отходила от окна, как преданный страж. Она не ответила на приветствие Ондржея, ничего не изменилось в ее лице, она лишь беспомощно и недоверчиво проводила глазами этого «вора», который шел по лесенке и через террасу.
Двери дома были полуоткрыты, коридор загорожен растрескавшимся столом для пинг-понга. На столе лежал потрепанный полосатый садовый зонт (Ондржей видел такой у Выкоукалов, женщины в пляжных костюмах завтракали под ним в саду) и стоял цветочный горшок — так близко к краю, что казалось, он тотчас же упадет на пол, как только где-нибудь от сквозняка хлопнет окно. Здесь пахло ушедшим летом, как в кегельбане, и засохшая глина крошилась и скрипела под ногами Ондржея, обутого в новые светло-желтые полуботинки.
Кто-то локтем отворил дверь напротив, что вела в кухню и в погреб, оттуда выбежал черный козленок и замер, словно стоя на цыпочках. У него была остренькая мордочка и косые глаза колдуна. За ним шла Поланская и несла в фартуке цветочные луковицы. Ондржей быстро пошел ей навстречу, назвал свое имя, напомнил о первом приезде, осведомился о Станиславе и спросил, как ей жилось в эти годы.
— Нынче не то, что при старой хозяйке. Уж никто не будет гонять нас, как она… Как же, как же, они приехали, — продолжала она, отвечая на вопрос Ондржея. — Идите наверх, Станя будет рад. — И, пытаясь вытереть ладонь, чтобы поздороваться с протянувшим ей руку Ондржеем, она выпустила край передника, и луковицы посыпались на пол.
Козленок потянул воздух носом, его глаза с узкими зрачками оживились, он обрадовался беспорядку и начал прыгать вокруг Поланской, которая опустилась на колени. Ондржею не оставалось ничего, как поставить чемоданчик и помочь собирать луковицы, что он считал немалой своей заслугой, ибо на нем было новое светлое пальто. Козленок, разбежавшись, боднул снизу стол и уронил цветочный горшок. Пани Поланская шлепнула козленка.
— Ах, безобразник! — воскликнула она, собирая черепки. — Нет от него покоя! — Она сердилась только для виду, как сердятся матери на озорных детей. — Золовка нам прислала его к праздникам, — продолжала она, залезая под стол, чтобы собрать закатившиеся луковицы. — Ходит он за мной, как собачонка, а завтра его надо вести к мяснику. Мне и подумать страшно. Я этого мяса и кусочка в рот не возьму. Но что поделаешь, мужчинам нужно мясо, — заключила она, подняла последнюю луковку, встала и стряхнула с себя пыль.
Ондржей сообщил ей, что передавал Поланский: после обеда фабрика не работает, рабочих хотят вынудить к уступкам, но они стоят на своем. Поланская как-то встрепенулась.
— Ну, Вацлав знает, что делает, — отчужденно сказала она. — Спасибо вам. Проходите наверх, здесь, в столовой, не топят с тех пор, как умерла хозяйка.
Лисица все еще окрашивала кровью снег сибирского пейзажа, и из дула ружья охотника по-прежнему вился дымок. Картина эта, связанная в воспоминаниях Ондржея с минутой стыда, висела в передней на том же месте, маленькая и старомодная. Ондржей мысленно измерил то расстояние, которое он прошел в жизни за время, пока коробилась рама этой картины и тускнело зеркало на противоположной стене передней. Одетый, как манекен с витрины, Ондржей отразился в стоячей воде этого зеркала. Стараясь не споткнуться о свернутые ковры, он ступил на застонавшие ясеневые ступени. В передней и на лестнице пахло, как в старой беседке. Где-то беспокойно скрипело открытое окно. Сквозняк носился по дому, где все говорило о переменах. Ондржей с болью в душе вспомнил свое давнее мучительное расставание с Льготной.
— Ах ты, чертенок! Иди, иди, проваливай! Ты что думаешь: тут все для тебя, жулик ты этакий! — раздался внизу голос Поланской, журившей козленка. Сверху послышался молодой тенор. Явно пародируя, он пел какую-то итальянскую арию. Певец, видимо, что-то делал и двигался по комнате. Ондржей пошел на голос.
В верхнем коридоре валялись мужские туристские ботинки, обросшие грязью, они лежали на том месте, где были брошены хозяином. Голос раздавался за дверью. Ондржей постучал, пение прекратилось, слышалось шипение огня. Ондржею крикнули: «Войдите!»
С дивана привстал, вопросительно и неприветливо глядя на дверь, немного поседевший Гамза; глаза у него остались все такие же дикие. Рослый молодой человек в рубашке и поношенных спортивных брюках шел от окна, держа в руке копировальную рамку (Ондржей вспомнил, что в доме Гамзы вечно фотографировали). Потолок казался слишком низким для этого стройного юноши, такого солнечно белокурого, что вспоминались фрукты, выросшие на южном склоне горы. В комнате царил беспорядок: пахло дымом, кожей, тминной водкой и книгами. О женщинах не было ни слуху ни духу.