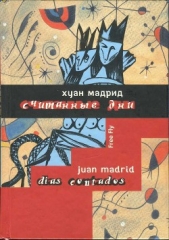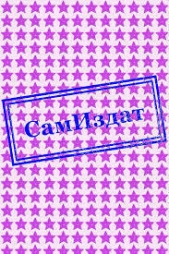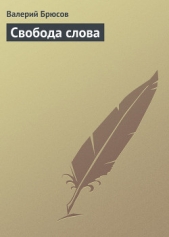Избранное
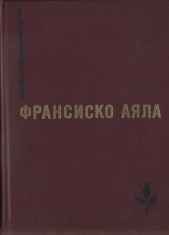
Избранное читать книгу онлайн
Сборник представляет советскому читателю одного из старейших мастеров испанской прозы; знакомит с произведениями, написанными в период республиканской эмиграции, и с творчеством писателя последних лет, отмеченным в 1983 г. Национальной премией по литературе. Книга отражает жанровое разнообразие творческой палитры писателя: в ней представлена психологическая проза, параболически-философская, сатирически-гротескная и лирическая.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скрывшись от глаз, вжавшись в угол за бочкой с комнатным растением, Пепе терзал себя горькими вопросами, когда вдруг, в довершение к прочим неприятностям, в дом с победным, торжествующим видом нагрянул некий обитатель литературного антимира, чтобы окончательно смутить, смять, попросту стереть с лица земли моего несчастного друга; так бледная лампада стыдливо меркнет при появлении дневного светила. Полосатый костюм, аккуратная прическа, щедро расточаемое, словно напоказ, радушие — вновь прибывший был, простите на грубом слове, самым что ни на есть настоящим хамом; но, если говорить о границах между реальным и призрачным, разве можно отрицать существование субъекта, который вот так хохочет, прыгает, суетится, крутится среди юнцов, едва ли не более живой и подвижный, повергает в блаженный трепет самых очаровательных женщин, наизусть знающих его сентиментальные творения, чьи вкрадчивые интонации они пытаются воспроизвести с большим или меньшим успехом; дамы не верят глазам своим, упиваясь восхитительным зрелищем, устроенным в скромном патио их кумиром, их незаходящей, сказочно прекрасной, недостижимо далекой звездой… До чего он тонкий, изящный, благоухающий, как просто держится со всеми, боже, как трогательно, до слез трогательно… Что вы, Хосе Ороско даже мечтать не мог о том, чтобы сравнивать себя, весьма сомнительного писателя, чья фигура соткана из зыбких черт, почти неуловимых оттенков, с вопиюще реальным субъектом, которого, однако, in mente [68] и беззлобно окрестил хамом.
Слава богу, никому не взбрело в голову представить этого типа Пепе Ороско; и когда какая-то дама, не принадлежавшая даже к числу родственников, попыталась исправить досадную оплошность, мой друг мягко, но весьма решительно остановил ее, умоляя воздержаться, так как он уже и без того слишком засиделся на этом восхитительном празднике, им с женой пора уходить, и желательно сделать это незаметно, дабы не прерывать всеобщего веселья…
Пепе поведал мне еще некоторые перипетии своего рискованного путешествия по преисподней литературы, где едва не погиб — возможно, из-за отсутствия проводника. По крайней мере он нередко сбивался с пути в темных закоулках этого чуждого мира, о котором говорил теперь весело и легко; так человек, вставший на ноги после болезни, с улыбкой рассказывает, что недуг оказался вовсе не таким уж тяжким и не заслуживал стольких волнений. Болезнь Пепе достигла кризиса в момент встречи с хамом от литературы, которого толпа дураков носила на руках; именно в тот вечер депрессия стала невыносимой, но именно тогда же и началось выздоровление. Трудно сказать, что за неведомые, темные, неисповедимые пути привели к этому перелому. Конечно же, в ту ночь бедный Пепе не сомкнул глаз и в горестные часы бессонницы вновь и вновь погружался в темные бездны тоски по своей ratée, manquée [69], одним словом, неудавшейся жизни, предавался бессильному отчаянию человека, вдруг осознавшего, что он стал жертвой надувательства; и заметьте, слово «жертва» никак здесь не подходит, ибо обманутый сам завлек себя в ловушку пагубного обольщения, в чем и заключается горькая насмешка, и ярость обманутого должна быть обращена только против себя самого. Ведь он впустую растратил прекрасную юность, энергию, талант, силу — неоценимые сокровища, — чтобы взамен получить конверт с пожелтевшими газетными вырезками: свою славу, никому не нужную в большом мире…
Но, как я уже говорил, на следующее утро началось выздоровление, и — так часто бывает после особенно тяжелых болезней — выздоровление чрезвычайно быстрое. За завтраком Пепе ощутил, что его мрачное настроение рассеивается под благотворными лучами утреннего солнца, которые лились в окно столовой; душа моего друга светлела от мысли (отнюдь, кстати, не новой и не оригинальной, но за все предыдущие дни ни разу не посетившей Пепе, чтобы указать ему спасительную лазейку), что достоинства произведения искусства измеряются вовсе не его популярностью и сиюминутным успехом, а благодарной памятью грядущих поколений; из чего следует, что можно подать потомкам апелляцию на современников, если твое творчество выдержало испытание временем и тем самым обеспечило тебе бессмертие.
Вот что говорил мне Пепе Ороско, и я полностью с ним соглашался, соглашался со всей горячностью. Мне так радостно было вновь видеть моего друга невозмутимо спокойным, безмятежным, видеть, что к нему вернулась та восхитительная уверенность в себе, которая позволила ему создать неоспоримо прекрасные творения… Постепенно наша беседа становилась все более общей и отвлеченной, и Пепе начал рассуждать, и довольно убедительно, относительно малой или вовсе ничтожной ценности побед на литературном поприще — это Пепе, одержавший чуть ли не самые крупные из них. И тогда я, дабы удостовериться, что уверенность моего друга в себе вновь непоколебима, что все сомнения канули в Лету, принялся возражать ему:
— Все это, конечно, так; но скажи, чего ради ты, я, да и все мы стараемся публиковать книги, счастливы, когда нас читают, сердимся, когда не понимают? Почему овации звучат для нас сладостной музыкой?
Я-то хотел показать Пепе, что не сомневаюсь в его полном выздоровлении, что теперь можно беседовать с ним без прежних предосторожностей, подобно тому как с выздоравливающим начинают разговаривать нарочито грубоватым и непочтительным тоном, внушая тем самым уверенность в том, что опасность осталась позади. И потом, я до смерти люблю спорить и анализировать или, как утверждают некоторые, перечить нашему светилу. И светило мне ответило:
— Все это — противоречия творчества; если хочешь, могу признать, что и мне свойственны человеческие слабости. Однако труду моему они нисколько не вредят.
— Извини, пожалуйста, — продолжал возражать я, — но ни ты, и никто другой, не сможет убедить меня, что публикация написанного — всего лишь издержки литературной деятельности; напротив, мне кажется, что именно в этой публикации и кроется истинная цель этой деятельности. Согласись, нет смысла писать то, что никто никогда не прочтет. Даже потерпевший кораблекрушение, бросая бутылку в море, адресует свое послание другому, и делает это с тем меньшей охотой, чем больше существует вероятность, что другого, то есть вожделенного адресата, не существует. Представь, что ты последний житель Земли; разве стал бы ты писать?
— Я писал бы для бога, — улыбнулся Пепе Ороско.
— Так, значит, ты пишешь, чтобы скрасить досуг господа? Я — нет, я пишу для людей из плоти и крови, грешных и смертных. И потом, — я сменил патетический тон на насмешливый, — не разделяю мнения императора-страдальца Карла V, будто бы испанский — язык, предназначенный для бесед с богом. А вдруг бог и вовсе неграмотный и читает только в сердцах?
— Что ж, такая позиция рискованна; никто не вправе утверждать, что Стефани, «наш безвестный коллега», не обладает сердцем лучшим, чем мы… Что же до тебя, — усмехнулся Пепе, — то ты, очевидно, пишешь из любви к господу для его чад. Для людей, да, но из любви к богу: из милосердия, ради которого ты трудишься неутомимо и непрестанно.
Из книги «О ПОХИЩЕНИЯХ, НАСИЛИИ И ПРОЧИХ НЕДОПУСТИМЫХ ВЕЩАХ»

Похищение
© Перевод С. Змеев
На своем великолепном мотоцикле он, словно метеор, влетел на сельскую площадь, остановился перед баром Анаклето и, предоставив машину любопытству вездесущих мальчишек, вошел внутрь выпить пива.
Давно уже это случилось, в будний летний день, около одиннадцати утра, когда в баре было мало народа. Анаклето налил пива, даже не взглянув на посетителя, и только потом, когда пригубил, разглядел его как следует и подумал: «Ну и птица!» Подумал так с удивлением и восхищением.
Несколько завсегдатаев, сидевших за столиком в углу у двери, тоже разглядывали его, удивленные и восхищенные его нарядом. Они слышали, как приблизился и смолк треск мотоцикла, и вскоре увидели, как он, твердо ступая, вошел в бар и заказал пиво. На нем были черная замшевая куртка, длинная и настолько приталенная, что ни вздохнуть, ни выдохнуть, великолепные брюки орехового цвета с кожаными вставками, высокие кожаные краги и блестящие ботинки. Ничего подобного видеть в те годы еще не доводилось, разве что в кино. Из своего угла они наблюдали, как он снял и положил на стойку бара белый шлем, как снял и положил в шлем шикарные перчатки, на перчатки — огромные зеленые очки, после чего левой рукой, на которой красовался перстень, поднял бокал с пивом, жадно отпил, а потом вытер оставшуюся на усиках пену носовым платком в полоску.