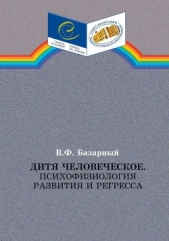Дитте - дитя человеческое
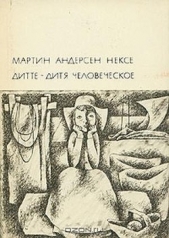
Дитте - дитя человеческое читать книгу онлайн
Роман "Дитте - дитя человеческое" - выдающееся явление литературы XX века. Его автор Мартин Андерсен Нексе (1869-1954) - известный датский писатель-коммунист, основоположник национальной пролетарской литературы.
Всем своим творчеством и в первую очередь монументальными романами "Пелле-завоеватель" (1910), "Дитте - дитя человеческое" (1921) и "Мортен Красный" (1954), в идейном отношении составляющими эпическую трилогию, посвященную датскому революционному движению, Нексе вписал новую страницу в историю национальной и мировой литературы.
Перевод А. Ганзен.
Вступительная статья В. Неустроева.
Примечания А. Погодина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
От старого постельного белья, переходившего по наследству из рук в руки, пожалуй, лет сто, отдавало чем-то затхлым, и этот запах, ощущаемый Дитте и во сие, вызывал у нее страшные видения. От старинных наволок пахло табаком и лекарствами, и девочке представлялась комната, где чахоточный муж хозяйки, с кровавой пеной на губах, свесив голову с постели, задыхался от кашля. А на кровати сидела грузная женщина с трубкой, пускала больному дым прямо в лицо и хохотала, когда дым попадал ему в рот. На полу сидел мальчуган и выводил рисунки, обмакивая пальцы в кровавые плевки… Дитте с криком просыпалась, чиркала впотьмах спичкой, хотя это строго запрещалось, и только тогда успокаивалась.
Так порою сгущалась атмосфера. Но Дитте всегда умела стряхивать с себя гнет; в конце концов все это не касалось ее лично. Другое дело Карл! Проклятие тяготело над ним, и он не мог сбросить его с. себя. Сине полагала, что от Карла можно ожидать чего угодно.
— Он весь в отца, — говорила она.
Материнского в нем ничего не было, — его любой мог загнать в угол. Всего замечательнее было то, что вместе с тем он отличался достаточным упорством в известных отношениях, где его не взять было ни добром, ни силой. Он не прикасался к табаку и осуждал греховное поведение матери, все теснее сближаясь со святошами. Когда же Карен стала кутить с Йоханнесом и его приятелями, Карл записался в «Общество трезвенников». Это был своего рода протест, сын как будто задался целью искупить грехи матери. Но постоять за себя не умел и, когда мать насмехалась над ним, отмалчивался.
— Ты, как видно, стал повесой, все за девками бегаешь, — язвила она во всеуслышание, когда он шел на «беседу». — Да ничего, видно, не поделаешь — возраст такой!
Карл уходил, как будто и не слышал ее слов. Не действовали на него и прямые запреты. Мать всячески старалась задержать его и помешать пойти на «беседу», но Карл все-таки удирал. Обычно он дрожал перед матерью, как собака, но, видно, больше всего боялся прогневить бога.
Дитте хотелось, чтобы он вообще был посмелее — например, вступился бы за нее и за Сине, когда хозяйка чересчур придиралась к ним. Но он всегда предпочитал улизнуть.
А Карен становилась все придирчивее, и все труднее было ей угодить, — всем и всеми была она недовольна. Быть может, оттого, что ей нужен был муж… да еще молодой, как объяснила Сине. Во всяком случае, поведение хозяйки отбивало охоту к работе, портило настроение и больше всего тяготило Дитте — ведь никуда не уйти было от этой гнетущей. обстановки.
По внешнему виду Дитте трудно было заметить что-либо — она ведь и прежде не была птичкой-щебетуньей, всегда отличалась серьезностью. Присущий ей оптимизм, глубоко заложенный в ее душе, сказывался главным образом в радостном рвении, с каким она бралась за всякую работу. С тех пор как судьба лишила ее радостей детства, все радости жизни заключались для нее в работе. Вот отчего у нее так и спорилось все в домашнем быту. Ее любвеобильное сердце помогало ей сохранять теплые сестринские отношения с младшими детьми и в то же время заставлять их слушаться. Это не всегда бывало легко, часто вместо ласки приходилось прибегать к строгости, чтобы добиться своего. Но в конце концов все улаживалось благодаря ее неистощимому запасу бодрости, которой она невольно заражала всех окружавших. А когда Дитте удавалось наконец добиться своего, она сменяла строгость на ласку.
Вначале, чтобы дети слушались ее, нельзя было обойтись без шлепков, но с течением времени надобность в этом отпала. Там, где наказание было необходимо — для пользы самих же детей, — она руководствовалась уроками своей бабушки. Если дети пачкали одежду, то платились за это самым чувствительным образом: их укладывали в постель — лежи, вместо того чтобы играть, пока платье или белье не будет выстирано. Наказание являлось естественным следствием их проступка, и дети понимали, что обязаны этим наказанием не Дитте, а собственному поведению.
— Сам теперь видишь, что надо быть поосторожнее, — говорила Дитте с невинным видом. Она даже являлась как бы ангелом-спасителем, к которому они чувствовали признательность за то, что он исправлял беду.
Так применялась она к обстоятельствам и понемногу сама уверовала, что в жизни существует справедливый порядок вещей, и поэтому так хорошо и управляла своим маленьким мирком. Порядок этот нарушался, если работа не доставляла радости, если к ней относились с пренебрежением или равнодушием. Дитте инстинктивно ненавидела всякий беспорядок и была твердо убеждена, что он потом скажется во всем. Как ни отвиливай от работы, ее все равно придется сделать — так было всегда, сколько она себя помнила, и примером тому являлся ее опыт по части мокрых штанишек. Теперь жизнь стала куда сложнее, но подчинялась тому же закону. Если нарушишь его, — не знать тебе покоя. Наденешь, например, дырявые чулки утром и ходишь целый день да казнишься. Или вот, когда она забыла вечером дать коту молока, — пришлось встать из-за этого среди ночи, иначе не заснуть было, — все время чудилось жалобное мяуканье.
Дитте была настоящей труженицей по своей природе. Жизнь не баловала ее другими радостями, зато ей в полной мере отпущена была радость труда, и она наслаждалась ею, как наградой сердцу за собственную доброту. Руки у нее были загрубелые, шершавые, голос хрипловатый, неблагозвучный, и ей не в чем было, кроме труда, проявить свои лучшие качества. В труде развертывалось все ее существо скромным, но полезным цветком. Она ничем особенно не выделялась, была настоящей скромной труженицей, которая с радостью делала все для других.
Но на хуторе никто не ценил ее за это. Здесь труд вообще не любили, смотрели на него, как на докучное бремя, брались за него лишь поневоле. Вот и делалось все кое-как. Дитте чувствовала, что всему виной отсутствие взаимной любви. Обитателей Хутора на Холмах ничто не связывало вместе. А с появлением там дяди Йоханнеса стало еще хуже. Он вносил только разлад и ожесточение; это Дитте знала, еще когда жила в Сорочьем Гнезде.
Словом, она устала от общества людей в жаждала летнего одиночества на пастбище. С нетерпением ждала весны в напряженно ловила признаки ее приближения; радовалась, когда сползла с нижнего склона крыши последняя снежная шапка, а еще больше радовалась, когда выглянули из-под снега на поле первые черные бугры земли, словно чья-то косматая спина. Медленно пробуждалась земля от зимней спячки. Сначала появились лужицы, затем ручейки; весенние струи пели свою песенку день и ночь; на оттаявшей почве вскакивали пузыри — в ней просыпались о бродили животворящие соки. Наконец земля в поле стала вязкой, как поднявшаяся опара, а над лугами заливались жаворонки.
Как раз в такой день Дитте послали на ту сторону общественных лугов — позвать на работу Расмуса Рюттера; пора было начинать весеннюю пахоту. Он не заходил на хутор с того дня, как они покончили с молотьбой, месяц тому назад; с тех пор для него работы не было. Вода еще не сошла, и местами вязкая, мокрая, суглинистая почва поминутно засасывала то один деревянный башмак Дитте, то другой; ей приходилось вытаскивать его, балансируя на одной ноге. Земля присасывалась к башмакам, словно жадный рот, и насилу отлипала с громким хлюпающим вздохом, смешившим Дитте.
Настроение у нее было прекрасное. Так приятно вырваться на часок из хутора! Приятнее же всего было то, что теперь лучи света проникали повсюду, многое-многое нужно было бы осветить там, на хуторе!
Хижина Расмуса Рюттера находилась на самом дальнем краю лугов, и от пастбищ до нее было не близко. На болотистой луговине, где Дитте обыкновенно пасла свое стадо, стояла еще вода; пришлось обойти кругом, держась края полей. Но интересно было смотреть вниз и узнавать свои гнезда, хотя за зиму они сильно пострадали. От этих мест веяло знакомым, словно домашним уютом, и ей еще сильнее захотелось, чтобы скорее настало лето.
Поденщика не оказалось дома. Жену его Дитте застала у печки, непричесанную и еще в одной рубахе, даром, что дело шло к полудню. В хижине было бедно и грязно.