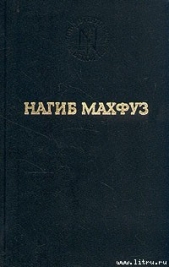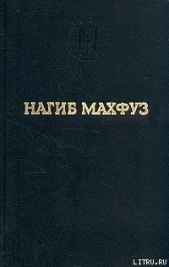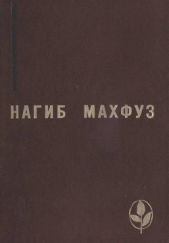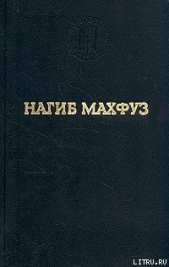Пастораль сорок третьего года

Пастораль сорок третьего года читать книгу онлайн
В книгу известного голландского писателя Симона Вестдейка вошел роман «Пастораль сорок третьего года».
Оптимизм, вера в конечную победу человека над злом и насилием — во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах, — несомненно, составляют наиболее ценное ядро во всем обширном и многообразном творчестве С. Вестдейка и вместе с выдающимся художественным мастерством ставят его в один ряд с лучшими представителями мирового искусства в XX веке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В объезд центра города, а значит, и дома Ван Дале машина свернула на широкое гладкое загородное шоссе и понеслась в Гаагу. Куря сигарету за сигаретой, Схюлтс несвязно и в то же время торжественно прощался с голландским ландшафтом под облачным небом, немного прояснившимся на западе. Еще сорок пять минут в пути, еще полчаса — машина проглатывала свободу вместе с километрами. Только один раз его попутчики прервали его мысли, когда в районе Зутермеера низенький спросил у шофера название деревни и повторил его длинному, язвительно добавив: «Ох уж эти мне голландцы…» У Схюлтса не было желания выступать в защиту своей родины на фронте фонетики или географической терминологии. Его осенила другая мысль. Насколько ему было известно, политических преступников редко направляли в Схевенинген, разве только из самой Гааги, они обычно попадали в тюрьму города, который они только что проехали, а потом, как правило, их везли в Роттердам или непосредственно в один из концлагерей. Схевенинген служил местом наказания спекулянтов, крестьян, повинных в нелегальном убое скота, и прочих мелких нарушителей порядка, которые, впрочем, никогда там долго не задерживались, а евреи, в основном гаагские евреи, тем более. По слухам, всех настоящих заключенных из Схевенингена этой весной отправили в разные места, в частности в Харен. Однако СД, по чьей воле устанавливались порядки, могло взять себе волю нарушить их. Уж кто-кто, а СД располагало волей в полной мере, а не как он, у которого от ее щепотки оставалось все меньше: еще четверть часа, а если ему не повезет у светофоров, то не более десяти минут… Около отеля «Белый мост» он вдруг понял, что все время обманывал себя мыслью, что его везут не в Схевенинген, а в Гаагу, ведь длинный сказал «Гаага», не «Схевенинген». Других предположений о пункте назначения у него не было; с таким же успехом он мог предположить, что для него заказан номер в этом самом отеле «Белый мост» или что его пригласили на завтрак к Зейссу-Инкварту. Когда машина выехала на Помпстационсвёг, то он понял, что длинный назвал Гаагу вместо Схевенингена, чтобы зря не волновать его или из-за трудного произношения сочетания «сх». Теперь стало ясно, что номер ему заказан не в отеле «Белый мост», а в Отеле «Принц Оранский».
Они проехали Помпстационсвег под сенью пожелтевшей листвы, свернули резко влево и оказались на широкой улице с трамвайными рельсами, откуда открывался вид на дюны. Схюлтс успел рассмотреть, что почти каждая дюна больше, чем просто дюна, или меньше — кто как на это смотрит: тут было, так сказать, сердце Атлантического вала. В низкой стене, вдоль которой ехала машина, показалась узкая дверь; машина остановилась, длинный сказал: «Бросьте сигарету» — и позвонил; им отворили, Схюлтс прошел между длинным и низкорослым по двору и наконец оказался в небольшой комнате, битком набитой солдатами и унтер-офицерами, которые не обратили на него ни малейшего внимания. Длинный передал бумаги, сказал: «У меня все» — и исчез; когда же оставленный у двери Схюлтс обернулся, то оказалось, что низенького тоже не было; он огорчился, длинный и низенький были последними ниточками, связывающими его со свободой. То, что он находился в лоне СС, яснее ясного доказывали настенные украшения: портрет фюрера и портрет Генриха Гиммлера как аллегорические выражения бахвальства и подлости. Он присмотрелся к солдатам и не увидел в них признаков необыкновенной жестокости или бросающейся в глаза грубости; у большинства были заурядные лица с правильными чертами и выражением некоторой самоуверенности. Он уж было собрался по привычке начать отгадывать, откуда родом каждый из них, когда его тронули за плечо и повели в другую комнату.
Здесь он получил возможность уточнить свое представление о типичных эсэсовцах. Один из двух встретивших его солдат был верзилой с грязно-серым угреватым лицом, видимо берлинец, подумал Схюлтс, хотя он и принадлежал к распространенной по всей Германии категории «красавчиков», отличающихся женственной правильностью черт лица, острым подбородком, носом с небольшой горбинкой и темными, ясными, упрямыми и лживыми глазами, — в довоенном Берлине такой попадался в каждой дюжине лифтеров, их можно встретить также в Дрездене или Мюнхене и даже среди отпрысков бывшего кайзера (он забыл только какого). Эта стандартная этнографическая личность рявкнула на Схюлтса: «Руки из карманов!» После того как Схюлтс усвоил этот урок хорошего тона, солдат уселся за стол, где записал фамилию, возраст, профессию и домашний адрес нового арестанта, в заключение потребовав удостоверение личности. По команде: «Освободить карманы!» — Схюлтс выложил из карманов все до мелочей, ему разрешили оставить лишь носовой платок: деньги, авторучка, часы, ключи от квартиры, пуговицы, карандаши, бумажки — все было вытряхнуто на письменный стол, его перочинный нож был тщательно обследован и проверен на остроту. Начатая пачка сигарет тоже лежала на столе; мысленно он уже простился с этими сигаретами в количестве одиннадцати штук. Куча на столе оказалась внушительной: Схюлтс всегда совал в карманы больше, чем доставал из них; среди бумажек была даже шпаргалка, которую он неделю тому назад отобрал у ученика второго класса, однако прыщавый берлинец не поленился сложить все это имущество в два объемистых пакета и составить опись. Тут за дело принялся второй солдат или унтер-офицер. Когда Схюлтс присмотрелся к нему внимательнее, то испугался. Берлинец в сравнении с этим типом был сущим младенцем! Этот был светловолос, мал ростом, худощав и желтолиц; при ходьбе он покачивал бедрами; резкость, тупость, жеманство, педантичность и отсутствие элементарного чувства юмора, характерные для любого среднего немца, были свойственны ему в опасно преувеличенной степени. Нельзя сказать, что он выглядел чрезвычайно грубым и жестоким, но Схюлтсу он показался олицетворением смерти. От этого человека исходила какая-то сатанинская сила; Схюлтс чувствовал бы себя лучше и ощутил бы больше кровного родства с японцем, негром или индейцем, чем с ним. Он не мог себе представить, что этот тип может нормально есть, пить, спать, смеяться, плодить детей. Впрочем, он не делал ничего особенного, не орал на Схюлтса, просто объяснил прыщавому, как заполнить бланк и обозначить все мелкие предметы одним словом. Схюлтсу велели расписаться на бланке, и сатана, вытащив связку ключей, повел его в тюрьму. Из проходной в разные стороны расходились широкие, освещенные сверху коридоры. В этих коридорах находились камеры; Схюлтс с сатаной пошли по одному из них, где сновали надзиратели в бурой тюремной форме и некто, похожий на повара, с шумом катил тележку с пустыми мисками. Сатана резким движением дал понять Схюлтсу, чтобы он шел не по настланной дорожке, а по каменному полу; Схюлтс повиновался, сатана отпер одну из камер с таким скрежетом, словно заработали мощные машины, и Схюлтс влетел в камеру на такой скорости, будто собирался выйти из нее с противоположной стороны. В том же самом темпе ему навстречу поднялась фигура, как будто его движение по горизонтали автоматически трансформировалось в движение другого человека по вертикали. Сзади снова раздался скрежет.
Человек опять сел на табурет около откидного столика, на котором лежала книга. Это был молодой парень атлетического телосложения с иссиня-бледным правильным лицом, на котором лишь нос был немного маловат, а глаза слишком велики; эти большие круглые глаза выражали нечто среднее между добродушной насмешкой и крайней наивностью. Однако все лицо в целом нельзя было назвать тупым. Когда Схюлтс представился, он дружелюбно кивнул и робко протянул руку.
— Вим Уден, — сказал он с акцентом гаагского простолюдина. — Рад, что еще один прибавился.
Он встал, и они пожали друг другу руки.
Схюлтс огляделся. Камера была не более пяти шагов в длину и около трех в ширину. В углу стояли деревянные нары с грудой тюфяков, подушек и скатанных одеял. На стене в углу над нарами были прибиты две полукруглые полочки, на которых он увидел тарелку, кружку и деревянную ложку. Свет в камеру проникал через маленькую фрамугу над массивной дверью с запертым окошечком; через фрамугу можно было беспрепятственно любоваться бескрайним небом, так как в этом крыле тюрьмы не было второго этажа. На стене висела вешалка; по обеим сторонам двери стояли глиняный кувшин и ведро, на которое можно было класть доску с отверстием. Стены был покрашены в желтый цвет, но казались изъеденными проказой из-за нацарапанных на них традиционных отметок времени: одна черточка — день. Даже при поверхностном осмотре Схюлтс насчитал не менее восьми маленьких календарей: в самом большом насчитывалось 43 дня. Над нарами проходила толстая прямая труба центрального отопления.