Леда без лебедя
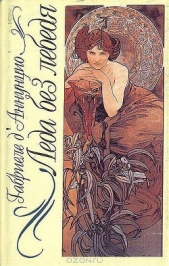
Леда без лебедя читать книгу онлайн
В сборник вошли лучшие произведения итальянского прозаика, драматурга и поэта конца XIX — начала XX веков Габриеле Д’Аннунцио (1863–1938), которые в свое время потрясли умы, шокировали общественную мораль и буквально «взорвали» мирную литературную Италию. Среди них — роман «Невинный» (1892), известный в нашей стране по знаменитому фильму Лукино Висконти; впервые переведенная на русский язык повесть «Леда без лебедя» (1916) — притча о внезапной страсти к таинственной незнакомке, о загадке ее роковой судьбы; своеобразное переложение Евангелия — «Три притчи прекрасного врага» (1924–1928), а также представленные в новых переводах рассказы.
Сост. В. В. Полев и Н. А. Ставровская; Авт. предисл. 3. М. Потапова.
На суперобложке использовано декоративное панно чешского художника А. Мухи «Изумруд».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Она еще не возвращалась, — был ответ.
И ледяным, безукоризненно учтивым тоном он предложил мне подождать.
Глазам моим, привыкшим к темноте, недвижная питонья голова предстала как в нелепом сновиденье, будто, не подозревая ни о чем, вошел я в комнату, а из угла враждебно смотрит, свившись кольцами в колонну с человечий рост, огромная рептилия, уползшая из зоосада.
— Благодарю, — ответил я, не в состоянии избавиться от наважденья. — Мне пора.
Я вышел и опять помчался во весь дух. В надежде повстречать ее доехал до конца приморского бульвара. Поднялся вновь на дюны. Пришел к себе, где среди книг и слепков все витал табачно-опиумный запах, снова увидал раскрытую клавиатуру, тень Бессмертного [74] на смолкнувшей слоновой кости.
Часть ночи прожил я с сознанием того, что не вполне уже собой владею. Я слушал, не раздастся ли тот крик, который, не достигнув уха, тронул мою душу.
Не знаю, долго ль от усталости я пробыл в забытьи, когда душа очувствовалась — вся в смятении, каким обуреваема толпа, внезапно услыхавшая сигнал тревоги. Приподнявшись на локтях, объятый дрожью, широко раскрытыми глазами я глядел во тьму, не зная, где я, что за день и час, что ждет меня, — так пробуждаются, чтобы уснуть навеки в рушащемся доме. Окно было открыто, как обычно, и по цвету неба в звездах понял я, что близится рассвет. Прохлада принесла успокоение. Я лег, но сон не шел.
Нет берега, куда бы билась мировая скорбь с такой же силой, как на Крайнем Западе, когда приходит новый день. Петуший крик на Ландах сипл и мрачен, словно птица помнит: предков приносили в жертву божеству, которое зачато было Ночью без помощи другого бога. Человек, разбуженный тем криком, чувствует себя бесплотной тенью, не сразу обретая ощущенье собственного тела, чтоб влачить земной свой жребий дальше.
Усталость снова одержала верх.
Проснувшись от слепивших солнечных лучей, я сразу вспомнил обещание проститься с матерью приятеля. И чтоб не опоздать, отправился с букетиком фиалок.
В бесстрашном, плодородном, полном возвращений и миграций небе дули западные ветры.
«Может быть, он не уедет, — думал я, представив горький его рот, услышав резкий смех. — Быть может, передумал».
Но другое мое «я», припомнив, как душу инструмента будто бы пронзила вспышка боли, говорило: «Уезжает. Он решил уйти. Он сломлен».
И я таил в себе загадку древнего и юного лица, напомнившего мощной лепкой вытесанную из базальта голову Пастушьего царя. Я ждал, не знаю сам откуда, некой вести, чтоб снова на него взглянуть открыто и без страха.
Вот я вступил на жалкую платформу. Вдоль перрона под навесом вытянулся поезд — закопченный, тяжеленный и дурацкий. Длинная скамья с нагроможденьем камышовых клеток, где теснились заморенные цыплята. Лица человеческих существ отмечены печатью рабства и бесчестья. Ландский петел пел для них.
Шагая вдоль вагонов в поисках приятеля и самого себя, я вдруг его увидел: прислонившись к материнскому плечу, сидел он будто в наркотическом дурмане, с восковым лицом и ватными ногами; меж приоткрытых век виднелись узкими полосками белки. Пожилая дама предупредила жестом неуместные поступки и слова. Потом ко мне склонилась бесконечно осторожно, чтоб не потревожить сына, и прошептала:
— Этой ночью она покончила с собой.
Вот что мне поведал Дезидерио Мориар.
Рассказ его, похоже было, подошел к концу, он молча вглядывался в мель (неяркую, без асфоделей и следов, впадину лежащего под нами мира [75]), и я спросил:
— Вы видели ее на ложе смерти?
— Видел, — был ответ.
— Лицо осталось невредимым?
Он кивнул; руки на коленях чуть дрожали.
Набравшись духу, я добавил еле слышно:
— И какое оно было?
Он погрузился в ночь, закрыв ладонями глаза, и не ответил.
Пляж с отливом сделался огромным; в мелководье, бездыханном и недвижном, отражалось замершее небо. Проливы, косы, отмели и дюны, мысы, пятна невысоких зарослей — все внутренние линии равнялись на океанский горизонт, выдерживая ритм возвышенного совершенства, дозволенного людям только в первый их посмертный час.
Западная красота простерлась в обнажившей ее тишине.
Три притчи прекрасного врага
© Перевод И. М. Заславской

I. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПРОТИВНИКА
Вечер, 27 января 1897 (Багаццано)
Я жажду, сам не знаю отчего. Томлюсь, а отчего — не знаю. Тревожно, тяжело дышать; молю Бог весть о коей передышке, Бог весть какого пристанища ищу. Но передышки той страшусь, как будто насмерть она дыханье перехватит; пристанища страшусь, как будто стены его живые обрушиться способны на меня. Я ничего не знаю о себе; о, если бы нашелся кто-нибудь, кто что-то знал бы обо мне и мне поведал.
О, просвети, направь меня, любовь! Но только что высокая женщина с глазами, полными тоски и бесконечности, покинула меня. В печальной поступи ее почудился мне шелест лавра.
Она перевязала волосками мои пять пальцев, когда, приблизившись вплотную, я с нею говорил. Я был опутан волосками и мучился, как будто волоски оковами сдавили длани мне.
Я вскакиваю — не пойму зачем — и восклицаю:
— Берегись!
Она не внемлет предупрежденью, а лишь ответствует:
— Порви, порви их сам!
Я отстраняюсь, оглушенный биеньем сердца своего. И рвутся волоски, но узелок стянул навечно каждую фалангу.
Ни возгласа, ни крика. Вот она касается моей руки, которую сама окольцевала столь нежной болью. Я слышу, как падают ее слезинки. Нить за нитью рвется, и непонятный, сумрачный обрыв нас друг от друга отделяет. Мы оба говорим слова, но нет в них смысла и не в силах они утешить нас. Слезинка теплая скатилась в промежуток меж безымянным и средним пальцами; от этого я смутно ощущаю себя над схваткой. Да, разум внемлет лишь живым приметам живых страданий: порванным нитям, влаге остывающей. Жизнь точно ускользает, готовая разверзнуться.
— Куда ты?
— Я ухожу. А ты пребудешь с тем, кто светел и высок на фоне черноты твоей. Я знаю, он у тебя в душе. За ним до сей поры следишь ты взглядом.
Порой неистовая четкость привидений, моим воображением рожденных, меня в смятенье повергает. Не мне ль дано увидеть дивное созданье, что удаляется меж кипарисов, неся любовь на дланях, как агнца, стреноженного бурою веревкой, а может, то стрела, летящая из ножниц пустоты, сияющей в своей вселенской тщете?
Ведь мы еще намедни были вместе в Скуола ди Сан-Рокко. Тот светлый и высокий человек стоял на затененном фоне. Я помню все. Я думаю о нем.
Неужто и меня кому-нибудь удастся одолеть, стреножить, ведь дух мой владеет силой уничтожать и время, и пространство, и зримые, и мнимые пределы, земные и небесные запреты?
Пройдя под мостом Гамберайя, я поднимаюсь к перекрестку, что осенен распятьем древним и древними стволами кипарисов. Гляжу сверху на Арно, струящуюся по долине. Вновь слышу сердцем всплески, наморщившие гладь венецианского канала. Вновь мерзну меж колонн большого зала, где уж давно лампады не горят. Вот стая серафимов снялась в полет к святилищу Пречистой: то ястребиное стремленье в погоне за Горлицей. Безумье крыл как бы предвосхищает кровавую расправу. За скорбью матери, склоненной у парапета над немощным младенцем, кровавый призрак в средоточье ужаса застыл. Святая Мария Египетская, Святая Мария Магдалина, две грешницы покинутые, за себя не просят воздаянья ни единой живой душе; но против них восстал зловещий сумрак, странно прочерченный сполохами, — то ствол древесный, подобие громадной головешки; колючий гнев людской восстал, чтоб выместить небесную обиду.
Но что мне суетная слава, ежли себя я узнаю в мастеровом моей породы, ежли умею я подняться к любой вершине, ежли знаю, что я рожден для беспримерного геройства? Иду между оливами. Оливковою рощей поднимаюсь к Багаццано. Вползает сумрак. Я остановился. Страсть и молитва в саду меня взрыхляют, насквозь пронзая, открывая мне, что горечь одиночества и жертвы без оглядки суть кровное мое предназначенье.


























