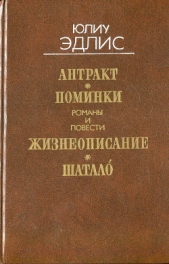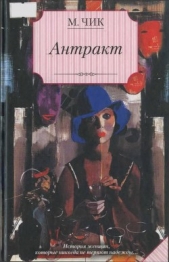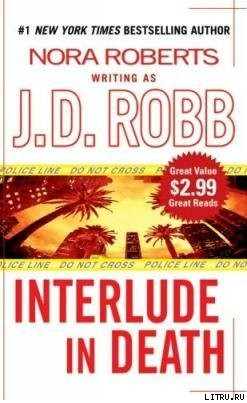Антракт: Романы и повести

Антракт: Романы и повести читать книгу онлайн
При всем различии сюжетов, персонажей, среды, стилистики романы «Антракт», «Поминки» и повести «Жизнеописание» и «Шатал?» в известном смысле представляют собою повествование, объединенное неким «единством места, времени и действия»: их общая задача — исследование судеб поколения, чья молодость пришлась на шестидесятые годы, оставившие глубокий след в недавней истории нашей страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помнили они конечно же не самую войну, а лишь эвакуацию, бесконечную холодную дорогу в «теплушках», скудную жизнь в скученных и настороженных чужих городах, продуктовые карточки и страх, которого не было страшнее, потерять их в хмурых, серых очередях, и — совсем уже далеко и нечетко, на самом краю детской их памяти, — надсадный вой воздушной тревоги и веселые, игривые белые облачка зенитных разрывов в беззащитно-ясном московском небе первых месяцев войны.
Тем не менее отец и мать почти с гордостью считали себя детьми той войны, и Ольга часто ловила их на том, как, смотря по телевизору фильмы про войну, особенно документальные, или даже просто слушая «Войну народную», или «Этот День Победы», или песню из «Белорусского вокзала», у них увлажняются глаза и светлеют лица, и они, пряча друг от друга эти слезы, сопят и шмыгают носом.
Чип же, когда по телевизору показывали фильмы про войну и раздавались громкие (бабушка с годами стала терять слух, и телевизор приходилось включать на полную громкость) взрывы и стрельба, беспокойно метался по клетке, перелетал с жердочки на жердочку, опрокидывая блюдце с водой, и жалобно, словно взывая о милосердии, пищал. Но стоило накинуть на клетку скатерть, как он тут же успокаивался.
Зато музыкальные фильмы он смотрел или, точнее, слушал с несомненным удовольствием, уронив как бы в сладостной истоме голову набок. Бабушка утверждала, что прослушав музыкальную передачу, Чип тут же пытается воспроизвести ту или иную мелодию. В его пении бабушка отчетливо различала заимствования или вариации на темы различных выдающихся композиторов, от классиков до наших современников.
Уйдя с Казанской железной дороги, бабушка в тридцатые и сороковые годы, в том числе и всю войну, работала на Центральном телеграфе, но в любительских спектаклях уже не участвовала.
Дед объяснял бабушкину измену любительскому театру ее, как он безжалостно выражался, погрязанием в тине быта.
При этом он сознательно или бессознательно упускал из виду, что вслед за бабушкой, и, кстати, очень скоро, он тоже отказался от сценической карьеры, пусть даже и любительской.
В отличие от бабушкиного ухода из мира изящных искусств, свой собственный добровольный отказ он обосновывал соображениями сугубо художественного порядка. Даже, если угодно, философского.
Дело в том, что дед напрочь и даже с каким-то сладострастным остервенением отрицал драматургию Чехова, Андреева, Горького, не говоря уж о тех, кто объявился после них. Для него русский театр начинался и кончался одним Островским.
Бабушка. не без ехидства объясняла этот дедов ригоризм тем, что в пору его увлечения сценой дед имел наибольший и, собственно, единственный успех на Казанской железной дороге в заглавной роли в «Красавце-мужчине» Островского, все же остальные созданные им на подмостках образы проваливались с неизменной последовательностью.
Дед, если верить сохранившимся старым фотографиям — блеклая кофейно-коричневая печать на просторных паспарту из толстого, добротного, какого уже давно не делают, картона с золотым тисненым вензелем фотографического ателье где-нибудь на Кузнецком или, скажем, на Арбате, — на этих старых фотографиях дед и вправду был очень красив и, судя по самоуверенному и даже чуть надменному выражению лица, знал за собой эту красоту и, скрестив на груди руки с наследственно длинными и слабыми пальцами, глядел с карточки чрезвычайно неприступно.
Считалось, что инсульт и, как следствие инсульта, паралич и полная неподвижность (впрочем, вначале не полная — первые два или даже три года дед передвигался самостоятельно по комнате, опираясь на палочку и волоча правую ногу) имели причиной его приверженность к вину.
Действительно, последние лет десять, предшествовавшие инсульту, дед был склонен к этой слабости. Пил он, правда, не водку, а недорогой, цвета химических чернил, портвейн и мадеру, а также еще не исчезнувший из продажи в те годы кагор. Пил и дома, один, сидя у окна и глядя насупленным, недобрым взглядом в тесный двор дома на Разгуляе (тогда вся семья еще жила в одной комнате старой коммунальной квартиры), и в случайных заведениях но пути с работы домой — в «стекляшках» и «деревяшках», которых пруд пруди у «трех вокзалов».
Дед никогда не бывал пьян по-простецки, «по-черному», то есть до потери человеческого образа. Пил он, как сам не без чувства собственного достоинства объяснял, по-старинному, как то и подобает интеллигентному человеку, а именно — был постоянно, с самого утра, особенно как вышел на пенсию, не пьян, но и не трезв. В этом состоянии он становился раздражителен и агрессивен, хотя при всем этом оставался в пределах приличий и даже подчеркнутой вежливости по отношению к домашним, но эта нарочитая, высокомерная благовоспитанность была для них тягостнее, чем откровенное пьяное тиранство.
Впрочем, Чипа в доме тогда еще не было, и по поводу дедова печального порока и едкого характера он не мог иметь сколько-нибудь определенного мнения.
Кстати, в связи с дедушкиной профессией инженера-путейца было бы непозволительно не упомянуть о том, что Чип однажды совершил путешествие по железной дороге. Когда семья получила вот эту новую трехкомнатную квартиру в пятиэтажном панельном доме на Ямском поле и, прежде чем в нее въехать, надо было ее капитально перестроить и отделать, все, в том числе, естественно, парализованный дед и Чип в своей клетке, выехали на лето на дачу в Купавну. В Москве остался один отец, который убил весь свой очередной отпуск, да еще взял месяц за свой счет, на ремонт этой первой в жизни семьи отдельной квартиры с совмещенным санузлом, балконом и мусоропроводом на лестничной клетке.
Впрочем, в тогдашней нервотрепке никто, даже бабушка, не запомнил, да и, честно говоря, не обратил внимания, как перенес Чип путешествие в поезде.
Когда, через сколько-то лет после смерти деда, Ольге впервые разрешили за праздничным столом попробовать красного вина, ей пришло в голову, что оттого-то и был таким красным, налитым кровью дедов неживой глаз, что пил он всю жизнь красное вино. Но из всего вышесказанного вовсе не следует, что деда в семье терпели с трудом или, того хуже, не любили. Или что он, в свою очередь, не любил Чипа. Правда, последнее никогда уже с полной точностью установить не удастся.
Отец относился к Чипу далеко не ровно. С одной стороны, как уже отмечалось, когда он принес его Ольге и увидел Ольгины широко распахнутые от восторга и счастья глаза и чуть потеплевшие, чуть смягчившиеся глаза ее матери — к тому времени его уже, собственно, бывшей жены, — ему поверилось, что рано или поздно вина его и грех будут если и не забыты и прощены, то хоть станут не так безжалостны; с другой же стороны, Чип был как бы постоянным, неумолимым напоминанием об этой его вине и более чем что-либо другое свидетельствовал, что нечего строить по этому поводу прекраснодушных и, если смотреть правде в глаза, совершенно тщетных иллюзий.
Вот почему, приходя к Ольге, отец не мог без душевного смятения и тоски глядеть на Чипа и слышать его фиоритуры.
Считалось, что отец «влип».
Слово это — «влип», как простейшее и все приводящее к общему знаменателю объяснение, пришло в дом извне, а именно, от ближайшей материной подруги Регины.
Чипа Регина не любила из глубоко принципиальных соображений. Она вообще считала, что брать от отца какие бы то ни было подарки — она говорила: «подачки» — предел унижения собственного (имелось в виду — материного) достоинства.
Дело в том, что в свое время Регинин муж тоже «влип», и ее не знающая удержу принципиальность произросла на горькой почве собственного опыта.
Эта недвусмысленная и не оставляющая никакой лазейки формулировка — «влип» — была безупречна тем, что с порога отметала самое предположение о возможности какой бы то ни было любви, страсти, душевного тяготения и прочего в этом роде. Влипнуть можно лишь в историю, точнее, если уж называть вещи своими именами, в дерьмо. Следовательно, все происшедшее можно — и должно! — объяснить лишь нравственной слепотой отца, с одной стороны, а с другой — расчетливой порочностью той, которая его увела от матери.