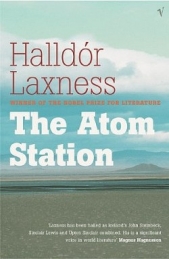Самостоятельные люди. Исландский колокол

Самостоятельные люди. Исландский колокол читать книгу онлайн
Лакснесс Халлдор (1902–1998), исландский романист. В 1955 Лакснессу была присуждена Нобелевская премия по литературе. Прожив около трех лет в США (1927–1929), Лакснесс с левых позиций обратился к проблемам своих соотечественников. Этот новый подход ярко обнаружился среди прочих в романе «Самостоятельные люди» (1934–35). В исторической трилогии «Исландский колокол» (1943), «Златокудрая дева» (1944), «Пожар в Копенгагене» (1946) Лакснесс восславил стойкость исландцев, их гордость и любовь к знаниям, которые помогли им выстоять в многовековых тяжких испытаниях.
Перевод с исландского А. Эмзиной, Н. Крымовой.
Вступительная статья А. Погодина.
Примечания Л. Горлиной.
Иллюстрации О. Верейского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Младший братишка задумался: он твердо решил ответить правильно. Он долго думал, но так ни до чего и не додумался. Нет, ни за что он не сумеет толково ответить на такой простой вопрос.
И старший ответил сам.
— Похороны — это похороны, дуралей! — сказал он.
Нонни был изумлен: как же он сам не мог понять такой простой вещи!
А старший брат продолжал:
— Да, похороны никогда не кончаются… Хотя бы люди ушли, хотя бы пастор сказал «аминь» в последний-распоследний раз, хотя бы водопад повернул назад, как это будто бы случилось прошлой весной, — хотя это неправда, водопад не может повернуть назад, — да, так вот — похороны никогда, никогда не кончаются. И знаешь, почему?
— Не хочу я тебе отвечать, дурак.
— Это оттого, что покойник уже никогда не оживет.
— Почему ты всегда хочешь, чтобы верх обязательно был твой? Оставь меня в покое, — сказал младший брат и отодвинулся.
— Тебе страшно?
— Нет.
Сумерки сгущались, стало прохладно. На горизонте скоплялись темные гряды туч — должно быть, будет дождь. А бабушка все ждет не дождется новолуния.
— Нонни, послушай-ка, рассказать тебе что-нибудь?
— Не надо, — говорит мальчуган. — Не хочу я слушать.
— А если мы здесь будем сидеть и сидеть целых сто или сто пятьдесят лет, и все будут сумерки, как сейчас, и отец все будет кормить одну и ту же овцу одним и тем же сеном из одной и той же охапки, и…
— Если бы отец был дома, вам бы здорово попало за то, что вы сидите и болтаете всякий вздор, вместо того чтобы работать, — это сказал Гвендур, средний брат; он подкрался к ним, словно вор.
Но, как ни странно, огрызнулся не тот, кто говорил почти все время, а тот, кто «еще не все понимал».
— А мы не с тобой разговариваем, — ответил младший.
Старший прибавил:
— Мы вовсе не так глупы, чтобы разговаривать с тобой.
Гвендур никогда не раздумывал о том, что такое душа, между тем как эти двое наедине без конца толковали о душе. Это объединяло их против среднего брата, помышлявшего только о работе.
— Отец-то, во всяком случае, скажет, что я умнее вас, — сказал Гвендур.
— Ну и что же? Зато мама нас очень любила.
— Гм, мама! А вы ни одной слезинки не проронили на ее похоронах. Никто из вас. А старая Гудни из Мири сказала, что стыдно смотреть на вас: мать хоронят, а вы таращитесь на пастора, как бараны.
— Неужто ты думаешь, что мы стали бы реветь в угоду отцу? Нет. Совсем нет. Мы хныкать не будем. Мы как викинги из Йомсборга. Ты ревешь, а мы уж скорей будем ругаться.
В самый разгар ссоры Ауста просунула голову в дверь; она взглянула на окутанную сумерками дорогу, вытерла тонкие руки о край юбки и спросила:
— Мальчики, вы видели его?
— Кого это — его?
— Как — кого? Не такие уж вы дурни. Сами знаете, о ком я говорю.
— Ты что думаешь, умер он, что ли?
— И не стыдно вам так говорить про отца?
— Да им только того и нужно, чтобы он умер, — сказал Гвендур. — Они тогда перестали бы работать, торчали бы тут, как собаки, на пороге и тявкали бы день-деньской.
Маленький Нонни возразил:
— Если мы захотим, то уйдем и будем странствовать по свету, а вы здесь останетесь.
— Ну и хорошо, отправляйтесь странствовать. Чем раньше, тем лучше. Никто из нас вам не позавидует, — сказала Ауста, уходя. Она-то по опыту знала, что такое странствия.
Ребята остались сидеть на пороге.
— Она тоже ревела, — сказал наконец вслух Хельги, когда молчать уже стало невмоготу.
— Да она и теперь ревет. Она ревела вчера вечером и позавчера. Другой такой плаксы нет.
— А ты знаешь, Нонни, ей даже не полагается плакать: она ведь не родня маме, да и никому из нас.
— Да, какая там родня!
— Это сразу видно по ее глазам. Один глаз у нее косит.
— Да, она косая.
— Она воображает, что уже взрослая и может распоряжаться здесь, оттого что у нее груди стали, как у женщины… А на самом деле она вовсе не взрослая, и нечего ей здесь командовать. Я вчера все хорошо разглядел, когда она ложилась спать… Ой, как бы она не услышала! А то подслушает и даст подзатыльника, когда и не ждешь.
— Ну, я ее не боюсь. Знаешь, она виновата в маминой смерти: пальто купили ей, а не матери; ей разрешалось два раза в день уходить домой отдыхать, а маме надо было все работать и работать, без отдыха, — больной-то.
— Нонни, а ты помнишь, как мама упала на руки бабушке и не могла подняться? Помнишь, как она дрожала?
Мальчик не посмел ответить.
— Это было в тот день, когда зарезали Букодлу, — продолжал Хельги.
Молчание.
— Нонни, а ты заметил, что некоторые люди еще при жизни мертвы? Ты разве не видишь этого по глазам? Я это сразу вижу. Я сразу отличаю живых от мертвых, стоит мне только взглянуть. В тот день, когда мама упала на руки бабушке, она и умерла, живой она уже больше не была. Вспомни только, какими глазами она на нас глядела по вечерам.
— Замолчи, Хельги. Ну зачем ты всегда мучаешь меня?
— Теперь сбылось все то, что предсказывала старуха Фрида в позапрошлом году. «Все это тиранство мужское! — сказала она. — Угробит он вас всех».
Так говорил старший брат. Некоторые люди наделены странным даром: они слышат поступь рока. Их мысли устремлены в сторону самого непостижимого, они даже видят головокружительные пространства, которые лежат по ту сторону мира и которые бог обычно скрывает от взгляда смертных. Такой дар ясновидения пугал младшего брата, он чувствовал себя растерянным и беспомощным: ведь сам он ничего не видел, кроме своей мечты.
— Хельги, как мне хочется поскорее стать взрослым, — говорил он, бывало. Своими мечтами, даром покойной матери, он пытался защитить себя от судьбы и от того, что за ней стояло. Как хорошо было бы иметь крылья и взвиться птицей, пронестись через пустошь, через высокую ограду в Утиредсмири, через телеграфные провода… Но, как бы он ни фантазировал, он чувствовал себя бескрылым, как четвероногое животное, и старший брат был для него словно ограда из колючей проволоки; он мог растянуть сумерки, и они превращались в вечность, наполненную одним только возгласом: «аминь!» Даже когда он, Нонни, отодвинулся и сел у самого края порога, послышалось еще более мрачное — гробовое «аминь».
— Послушай, Хельги, — сказал он наконец; ему пришла в голову блестящая мысль. — Почему бы нам не убежать из дома? Помнишь ты мальчишку-приемыша, который воспитывался в Гиле? Он этой весной сбежал. Да, сбежал! И все бежал, бежал — на восток, до самого Вика.
— У него там родители живут, — пояснил старший брат. — Они взяли его к себе, когда он спустился с горы. А нас кто возьмет? И куда? Никто. Никуда.
Опять они сидят на пороге, и вечерний мрак все сгущается, в особенности над младшим братом, на свою беду лелеющим мечту о светлом будущем. И когда ему становится невтерпеж, он начинает сызнова:
— Когда мама была молода, она дружила с аульвами; это было у нее на родине, в Урдарселе. Она мне о них рассказывала в прошлом году, когда мы с ней сторожили Букодлу, — мы тогда пасли ее на склонах. И мама пела мне песенки. А давно-давно, когда я был еще совсем маленьким, эти аульвы говорили маме, что я буду петь песни…
Он не смел открыть брату, что ему предстояло петь для всего мира, боясь, что брат посмеется над этой хрупкой мечтой, ибо самые заветные желания окутаны глубочайшей печалью. И он скромно сказал:
— Я должен буду петь в церкви Редсмири.
— Чего только не рассказывают маленьким детям, разве ты не знаешь? А почему? Потому, что мы еще малы. Мама мне рассказывала то же самое. Она говорила, что есть феи, живущие в далекой стороне, где все-все совсем другое — и бури, и хорошая погода, и солнце! И самые дни — другие. А затем она родила ребенка, и он умер, и мама долго-долго болела. И каждый раз, когда она дышала, я чувствовал, как ей больно; и я не спал по ночам и прислушивался к ее боли. Иногда в метель, по вечерам, я убегал из дому. Я подходил к каждому утесу, шептался с ними, скалывал с них ледяную корку, чтобы им было лучше слышно, — я умолял каждый утес помочь матери, потому что в ее сказках скалы помогали людям. Однажды ночью я просил помощи у десяти, а может быть, у тридцати утесов. Я думал, что если в одном нет никаких фей, то, может быть, в другом они есть. Если только там живут феи, они помогут маме и, может быть, нам всем. И все-таки мама умерла. Умерла. Скажи-ка, почему феи не помогли ей? Ведь ты думаешь, что все знаешь. Они не помогли оттого, что их нет. Ни в этой скале и ни в той — ни в какой. Мама рассказывала нам эти сказки, потому что мы были маленькие, а она была добрая.