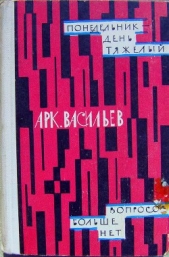Выше жизни

Выше жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти старинные часы положили начало мании Ван-Гюля; за ними последовали различные другие часы…
Он покупал их на аукционах, у антиквариев и золотых дел мастеров. Совершенно неожиданно он начал собирать целую коллекцию, интерес к которой у него возрастал, захватывая его.
Только тот человек счастлив, у кого есть какая-нибудь господствующая страсть в жизни! Она занимает его время, пустоту его мысли, наполняет неожиданностями его скуку, дает направление его безделью, оживляет быстрым и беспрестанным течением монотонную воду существования. Ван-Гюль нашел средство сделать свою жизнь интересной, в большей степени, чем это ему удавалось с помощью прежних тайных сборищ, платонического заговора, этого тщетного увлечения идеей о возрождении Фландрии, мало определенной п столь далекой.
Теперь для него наступило непосредственное осуществление его мечты, личное и продолжительное удовольствие. Среди этого сумрачного Брюгге, где он вел жизнь вдовца, без всяких событий, все дни которой отличались одинаковым сероватым оттенком, как воздух города, какую неожиданную перемену должна была внести эта новая жизнь, полная напряженного внимания, постоянно стремящаяся к определенной цели! А удачное приобретение коллекционера! Неожиданная встреча, увеличившая его богатство! Ван-Гюль уже приобрел опытность. Он изучал, отыскивал, сравнивал. Он мог судить с первого взгляда, к какому времени относятся часы. Он производил диагностику возрасту, отличал подлинные часы от поддельных, понимал красоту стиля, знал некоторые надписи, иллюстрирующие их, как произведения искусства. Он вскоре стал владетелем целой серии разнообразных часов, собранных мало-помалу.
Он отправлялся в соседние города для добывания их. Он ходил на аукционы, где иногда, после похорон, можно было найти редкие, любопытные экземпляры, сохранявшиеся с незапамятных времен в древних родах. Его коллекция становилась значительной. V него были часы всех родов: в стиле етрirе, мраморные и бронзовые или из золоченой бронзы, часы времен Людовика XV и Людовика XVI, с отделанными стенками, из розового дерева, с инкрустацией, мозаикой, изображениями любовных сцен, делавшими эти украшения шаловливыми, как рисунки на веере; мифологические, идиллические, воинственные столовые часы, фарфоровые часы из дорогого и хрупкого материала, — севрской и саксонской работы, где время смеется среди цветок; мавританские, нормандские пли фламандские стенные часы, с шкапчиками из красного дерева или дуба, с боем, свистящим, как черный дрозд, скрипящим, как цепи колодца. Затем другие редкости: морские часы, где падающие капли воды обозначают секунды. Наконец, целая масса небольших часов на кронштейнах, великолепных карманных часов, столь же нежных и миниатюрных, как драгоценности.
Каждый раз, когда он делал новую покупку, он спешил поместить ее в большой комнате первого этажа, где находилась его коллекция; и новый пришелец сейчас иге примешивал свое тикание металлической пчелы к тиканью других подобных пчел в этой таинственной комнате, казавшейся ульем времени…
Ван-Гюль был счастлив. Он мечтал еще о других родах часов, которых у него не было.
Разве не в этом состоит тонкое наслаждение коллекционера, чтобы его желание шло до бесконечности, не останавливалось бы ни перед чем, не достигало никогда полного обладания, разочаровывающего людей уже в силу своей полноты? Ах, какую отраду доставляет возможность до бесконечности откладывать осуществление своего желания. Ван-Гюль проводил целые дни в своем музее часов. Когда он отлучался, его очень беспокоила мысль, что могут войти туда под каким-нибудь предлогом, тронуть гири, потянуть цепи, разбить одно из его самых редких приобретений.
К счастью, его дочь Годелива была хорошим сторожем. Ей одной разрешалось оставаться там стирать пыль, убирать комнату своими осторожными руками, пальцы которых были легки, как крыло, смахивающее пыль со всех предметов. К тому же, она была его любимою дочерью. Барбара, старшая дочь, со своим испанским цветом лица, с красным, как индийский перец, ротиком, становилась иногда своенравной и раздражительной. Из-за пустяка она выходила из себя, сердилась, кричала от гнева. Он узнавал в ней темперамент матери, которую совсем молодую убила нервная болезнь. Впрочем, он все же любил ее, так как за ее дурным расположением духа следовала нежность, короткие и неожиданные ласки, точно затишье после бурного ветра, внезапно успокоившегося, убаюкивающего и ласкающего цветы.
В противоположность ей Годелива, младшая дочь, окружала его ровною привязанностью, прелестною в своем однообразии. Это была спокойная уверенность в чем-нибудь, что неизменно и навсегда определенно. Она походила на него, как зеркало. Он видел себя в ней, так как она напоминала Фландрию. Это было его лицо, те же глаза цвета каналов, глаза северных жителей, в которых чувствуется вода; тот же немного длинный нос, тот же большой и гладкий лоб, точно «гена храма, где ничто не просвечивает изнутри, кроме небольшого света, являющегося отголоском тихих радостей ума. Но, прежде всего, это была его душа, та яге мистическая и нежная душа, охваченная внутреннею мечтою, скрытная и молчаливая, точно занятая разматыванием связок мыслей, запутанных туманом. Они часто проводили целые часы в одной комнате, не говоря ни слова, счастливые тем, что они вместе, счастливые тем, что кругом тишина. У них было ощущение, что они образуют одно существо.
Она, действительно, была его плотью. Можно было бы подумать, что она продолжала его, распространяя его вне его самого. Как только он желал чего-нибудь, она тотчас же это исполняла, как он это сделал бы сам. Он чувствовал, что она была опорою и орудием его воли. И, на самом деле, в буквальном смысле, он смотрел ее глазами.
Жизнь точно в унисон! Ежедневное чудо: оставаясь двумя людьми, — составлять как бы только одно существо! Старый антикварий дрожал при мысли, что Годелива когда-нибудь может выйти замуж, покинуть его! Поистине это был бы настоящий разрыв; что-нибудь из его существа ушло бы далеко от него. После этого он почувствовал бы себя точно искалеченным.
Он часто об этом думал, заранее испытывая ревность. Сначала он боялся, чтобы кто-нибудь из его экзальтированных патриотов, собиравшихся у него по понедельникам вечером, не полюбил Годеливы. Не было ли это неосторожностью с его стороны — принимать их? Не раскрывал ли он сам дверь своему несчастью? Жорис Борлют и Фаразэн были еще молоды. Но они казались закоренелыми холостяками, подобно Бартоломеусу, художнику, который для того, чтобы лучше уберечься от женитьбы, поселился в ограде монастыря, устроил там себе мастерскую в одной из покинутых обителей. Можно было бы подумать, что он вступил в брак с искусством… А другие, — разве они тоже не были обручены с городом, задавшись мыслью украсить его, как любимую женщину? В их душах не было места для новой страсти. По вечерам у него они слишком возбуждались подготовлением своего дела, обсуждением проектов и надежд, воскрешением старых знамен, чтобы обратить внимание на такую молчаливую девушку, какою была Годелива, сидевшая среди них. Шум от ее работы, подобно звукам молитвы, произносимой шепотом, не мог удовлетворить эти бурные сердца, мечтавшие услышать новое рычание Фландрского Льва.
Ван-Гюль был поэтому спокоен. Годелива находилась в безопасности. Она останется его дочерью. Что касается Барбары, с ее более пышною красотою, ее чудным и обещающим прекрасный плод ротиком, очень может быть, что она увлечет собою однажды кого-нибудь. Ах, если бы она могла выйти замуж! С какою радостью он дал бы свое согласие! Для него окончились бы его постоянные тревоги: раздражительное расположение духа, быстрые вспышки гнева из-за пустяков, сердитые слова, приступы слез, неприятности, во' время которых дом точно переносил кораблекрушение.
Ван-Гюль трепетал от этой надежды: жить только в обществе Годеливы! Всегда с ней одной, до самой смерти! Неизменно тихая жизнь, такая спокойная, такая мирная, в которой не было бы другого шума, среди безмолвия, как биение ее собственного уравновешенного сердца, точно она являлась в музее часов лишними часами, — небольшими человеческими часиками, отражавшими спокойное лицо Времени.