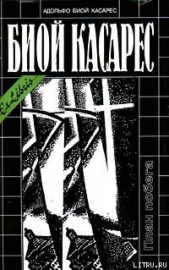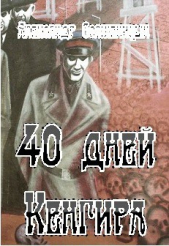Пассажирка

Пассажирка читать книгу онлайн
… В письме к переводчикам Зофья Посмыш рассказывает, что толкнуло ее на создание повести «Пассажирка». Ее поразил крикливый, резкий голос женщины, туристки из Германии, который она услышала в Париже. Этот голос напомнил ей одну из надзирательниц Освенцима. И тогда Зофья Посмыш спросила себя: как бы она поступила, если бы в дни мира встретила эту надзирательницу?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать умоляла меня принять эту «должность» (вы говорили о надежде на победу, а ведь обычно это была просто надежда на то, что кончится война, что уцелеют те, кто еще не успел погибнуть), и мне от ее просьб пришлось опять бежать на фронт. Я все же воспользовался помощью дяди, тогда еще обер-штурмбаннфюрера СС, и благодаря ему попал на Западный фронт. И тут мы сдались в плен всей ротой. Это было не так легко, уверяю вас. Наш командир погиб, погиб от немецкой пули. Все наши ребята, кроме этого командира, так же как и я, не мечтали о победе Германии, они вовсе не хотели погибнуть. И подумайте, мистер Бредли, какой парадокс: именно благодаря тому, что я был родственником законченного негодяя, мне удалось сохранить, так сказать, чистоту, хотя и весьма относительную.
Вальтер замолчал, пораженный внезапно пришедшей ему в голову мыслью. Почему этот американец первым узнал о нем всю правду? Ведь даже Лиза знает только, что он попал в плен. Он столько раз повторял это всем, что почти забыл, как было на самом деле. И тут же с беспощадной трезвостью сказал себе: «Вопреки всему, что я здесь наболтал, пытаясь убедить американца, в Западной Германии мне нельзя было в этом сознаться, нельзя было сказать: «Я не хотел сражаться за Гитлера и поэтому дезертировал», — нельзя под угрозой анафемы». Вальтер не успел еще примириться с этой мыслью, освоиться с ней или хотя бы продумать ее до конца, как заговорил Бредли. Он спросил равнодушно, просто из любопытства, без всякой задней мысли:
— Скажите, а что случилось с вашим дядей? Конечно, если вы не считаете мой вопрос бестактным…
— Нет, отчего же, — сказал Вальтер, с облегчением подхватывая нить разговора в этом новом, равнодушном тоне. — Могу вам сказать. В сорок шестом его приговорили к пятнадцати годам. Десять он отсидел, а остальные…
— Ему простили и назначили пенсию, — докончил Бредли. — Он живет в каком-нибудь городишке, окруженный ореолом мученика, пострадавшего за фатерланд, и все, даже те, кто раньше переходил на другую сторону улицы, чтобы с ним не здороваться, теперь ищут случая сказать ему: «Добрый день, господин… господин… полковник».
— Откуда вы знаете?! — Вальтер не сумел скрыть раздражения. Разговор этот ему изрядно надоел.
— Простите. Я, разумеется, не хотел сказать, что в данном случае дело обстоит именно так или что вы, боже упаси, так к нему обращаетесь. Вы меня неправильно поняли. Я имел в виду скорее некое обобщение, а если вам еще не надоела наша беседа, то я позволю себе вернуться к выражению, которое употребил вначале. Именно это я называю попустительством преступлению, и именно это сегодняшнее попустительство я больше всего ставлю немцам в вину. Вы, герр Кречмер, исходя из ваших же собственных рассуждений, должны со мной согласиться. В то время можно было ничего не знать, не хотеть знать или, зная, не хотеть стать мучеником. Но теперь без всякого принуждения говорить такому человеку, как ваш дядя, «здравствуйте» — это ведь то же самое, что говорить «хайль Гитлер». Вы, наверно, заметили, что я в нашем споре сознательно не ссылался на факты из области государственной политики. Всем известно, почему оправдывают этих господ, почему им предоставляют безопасные, удобные убежища, я не так глуп, чтобы не понимать, что ваше правительство — это не немецкий народ, или, во всяком случае, не весь немецкий народ. Но то, о чем я говорил, такое отсутствие морального осуждения со стороны общества, которое, если и не солидаризируется с тем, что представляли и продолжают представлять собой эти люди, то, во всяком случае, терпит их присутствие, не отваживается ни на малейшее проявление протеста, хотя бы в форме общественного бойкота, а иногда даже наоборот…
— Ваши наблюдения, однако, довольно односторонни, — перебил Вальтер, и его слова прозвучали суше, чем ему хотелось бы. — Это тем более странно, что вы познакомились с людьми из окружения доктора Штрайта. Они не мирятся ни с прошлым Германии, ни с теперешним курсом «Старика».
— Это группа интеллигентов, — возразил Бредли, — либералов, в числе которых много бывших заключенных.
— Вы хотите сказать, что эта среда не характерна, не отражает подлинного облика нации?
— Вот именно.
— Послушайте, мистер Бредли. Я принадлежу к единомышленникам доктора Штрайта, правда, лишь частично, так как не был активным антифашистом, да и теперь, как вам известно, не стал общественным деятелем. Я просто человек, с которым «можно говорить обо всем», как меня отрекомендовал доктор Штрайт, давая вам, очевидно, понять, что я не похож на тех немцев, с которыми вы не могли говорить ни о чем. Под этим «ни о чем» я подразумеваю невозможность говорить о том, что вас в Германии больше всего интересует. Мне не хочется сейчас продолжать наш спор, вы понимаете, мне нужно наконец посмотреть, что делает Лиза, может быть, я ей нужен, ведь она обещала сюда прийти. Но я надеюсь, что нам еще представится случай разобраться в этом, рассмотреть причины, по которым средний немец не хочет говорить «обо всем» и предпочитает этаким обиженным «не знаю» выражать «попустительство преступлению», как вы это называете. А теперь я хочу только сказать вам, мистер Бредли, что и по своему прошлому, очень серому, как вы могли убедиться, но весьма типичному для среднего немца, и по тому, чем я являюсь сегодня, я принадлежу к той части народа, которую вы в своем строгом распределении по категориям не заметили вообще: к спокойному, хозяйственному, трудолюбивому, по-мещански умеренному большинству немецкого народа. Мы оба с женой принадлежим к нему, и я могу со всей ответственностью заявить вам: мы ничему не попустительствуем — ни тому, что было, ни тому, что есть.
Он помолчал и как бы мимоходом добавил:
— А что касается моего дяди… Вполне возможно, что он ежедневно получает свою порцию приветствий и среди них доброжелательное: «Добрый день, господин полковник». Я не знаю.
Последний раз я его видел в сорок шестом году.
Лиза проснулась с тяжелой головой. Снотворное, принятое накануне вечером, продолжало действовать, и поэтому, вместо того чтобы немножко вздремнуть после обеда, она спала неожиданно долго. Взглянув на часы, Лиза испугалась. Вальтер обидится — ведь она обещала выйти к ним. Она торопливо оделась и пошла. В коридоре было довольно темно, свет почему-то еще не зажгли. В маленьком внутреннем холле Лиза остановилась у зеркала, ей показалось, что щека у нее запачкана губной помадой. Она приблизила лицо к стеклу, чтобы лучше рассмотреть, и… чуть не вскрикнула — внезапно зажегся свет, и Лиза увидела в зеркале, в правом углу чьи-то глаза. Нижняя часть лица не была видна, только глаза, испытующие, настороженные. Как сквозь туман Лиза заметила свое собственное лицо; оно стало пепельно-серым. Как эта женщина попала сюда, в этот холл? Ведь она соседка мистера Бредли, и, стало быть, ее каюта в другом конце парохода? Почему она сидела здесь в углу, в темноте? Не она ли зажгла свет? От этих мыслей у Лизы закружилась голова. Она машинально заглянула в сумку, словно ища чего-то, и вернулась в каюту.
Здесь Лиза вновь подошла к зеркалу. С минуту постояла неподвижно, разглядывая свое отражение. Взяла щетку. Откинула волосы со лба. Потом опять зачесала их на лоб. Стерла помаду, взглянула на себя и снова торопливо накрасила губы. Она изучала в зеркале свое лицо, словно чужое.
Вошел Вальтер с ракеткой в руке.
— Ну и замучил же он меня! Я прямо молил бога, чтобы ты пришла на выручку.
Она посмотрела на него отсутствующим взглядом.
— Я как раз собиралась идти.
— Вижу. На час позже, чем мы условились.
— Мне очень жаль, Вальтер.
— Ты спала? У тебя такой вид, будто ты еще не проснулась. Извел меня этот Бредли!
— Ты выиграл?
— Как сказать, это зависит от точки зрения. Но… что у тебя с голосом? Ты охрипла?