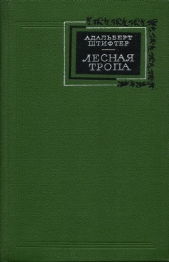Бабье лето
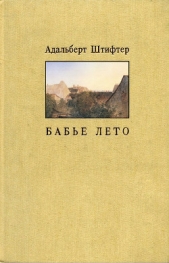
Бабье лето читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При этих словах в зал вошел Густав. Сумрак уже сильно сгустился, но дождь все не шел.
— Вот он еще на той ступени, на которой вы были прежде, — сказал мой гостеприимец, указывая на подошедшего к нему Густава.
— Что ты имеешь в виду, отец? — спросил мальчик.
— Мы говорим об искусстве, — отвечал мой гостеприимец, — и я говорю, что ты еще не в состоянии познавать произведения искусства и судить о них так, как наш гость.
— Ну, я и сам так считаю, — сказал Густав, — потому-то он отчасти и мой учитель, и если в знании искусства он берет пример с тебя, Ойстаха и матери, то я буду брать пример с него.
— Это хорошо, — сказал мой гостеприимец, — но это не совсем то, о чем мы говорили, и к сути дела не имеет отношения.
С этими словами, как бы предотвращая дальнейшие вопросы, он подошел к окну, а мы последовали за ним.
Полюбовавшись все более великолепной картиной темневшего над равнинами неба, мы уже в переходивших во мрак сумерках спустились по мраморной лестнице в столовую, поскольку уже наступил час ужина.
Гроза, разразившаяся ночью и наполнившая одну ее часть громыханьем грома, а другую только дождем, сменилась сверкающим, ясным утром.
В этот день первым делом я пошел к мраморной статуе. Вчера, когда мы спускались по лестнице, я видел ее неясно и лишь поверхностно освещенной молнией. На лестнице было уже слишком темно. Сегодня, в спокойном и ясном свете дня, падавшем на лестницу через стеклянную крышу, статуя казалась простой и строгой. Я не думал, что она так высока. Я стал напротив нее и долго ее рассматривал. Мой гостеприимец был прав, я не находил никаких отдельных красот в новейшем значении слова, я даже вспомнил на лестнице, что при мне часто говорили о какой-нибудь книге, о каком-нибудь спектакле или картине, что в них много красот, и тут перед статуей мне стало ясно, как несправедливо такое суждение, или, если оно справедливо, как бедно произведение, если в нем есть только красоты, пусть даже в изобилии, но не само оно — красота. Ибо в великом произведении красот нет, их тем меньше, чем произведение целостнее и единичнее. Только теперь я понял, что когда говорят, что у такого-то мужчины, такой-то женщины красивый голос, красивые глаза, красивый рот, то тем самым и говорят, что прочее не так красиво. Иначе не стали бы выделять что-то одно. То, что применимо к живому человеку, неприменимо к произведению искусства, где все части должны быть одинаково хороши и ни одна не должна выделяться, иначе оно как произведение искусства не чисто и, строго говоря, произведением искусства не является. Несмотря на то или, вернее, именно потому, что я никаких отдельных красот в статуе не нашел, она, как мне стало ясно теперь, снова произвела на меня чрезвычайное впечатление, какое часто возникало у меня от красивых вещей, даже от поэтических сочинений, оно было, если так можно выразиться, более общего свойства, таинственнее, загадочнее, глубже, сильнее. Но и причина его была где-то дальше и выше, и мне стало понятно, какая это высокая вещь — красота, насколько ее труднее постичь и выразить, чем отдельные человеческие радости, и я увидел, что заключена она в великом духе и оттуда нисходит на людей, порождая и создавая великое. Я почувствовал, что в эти дни продвинулся далеко вперед.
Впоследствии я говорил о статуе и с Ойстахом. Он очень обрадовался тому, что я нашел ее такой прекрасной, и сказал, что ему давно уже хотелось поговорить со мной об этом произведении, но это было невозможно, потому что сам я о статуе не заговаривал, а от диалога толк бывает только тогда, когда предметом увлечены обе стороны. Теперь мы вместе осматривали скульптуру и обращали внимание друг друга на свойства, которые нам открывались. Особенно многое о создании, о пропорциях, о закономерностях мраморной статуи и о тайнах ее воздействия мог рассказать Ойстах, — хотя эта скульптура в своей простоте, в своей все более поражавшей меня естественности как бы ускользала от всякого разбора подробностей. Я жадно слушал, чувствуя верность его замечаний, хотя не всегда понимал его так хорошо, как моего гостеприимца, потому что Ойстах не умел говорить так ясно и просто, как тот. Я продвигался в познании этой статуи, и у меня было такое чувство, будто после его слов она каждый раз приближалась ко мне все больше.
Ойстах добыл множество рисунков со статуй и других резных или как-то иначе изваянных средневековых скульптур. Мы сравнивали эти изваяния с древнегреческими. Пользовался он для сравнения также подлинными фигурками ангелочков, святых и других особ, имевшимися в доме роз или поблизости. Тут я воочию увидел, как верно то, что говорил мой гостеприимец о греческом и средневековом искусстве. В греческих произведениях было что-то юношеское и в то же время мужественно-зрелое, в них наряду с великолепной естественностью были мера и осмотрительность. В средневековых скульптурах чувствовался добрый, простой, бесхитростный нрав, с искренней верой искавший средств выразить себя, не вполне с этими средствами справлявшийся, не знавший того и все же достигавший такого воздействия, которое и сейчас властвует над нами и нас изумляет. Это говорит душа, это она восхищает нас своей чистотой и строгостью, тогда как позднейшие времена — их Ойстах тоже представил множеством рисунков со скульптур — создавали, при всей их разумности и просвещенности, при всем их знании художественных средств, лишь холодные фигуры в неправдоподобно развевающихся одеждах и неестественных позах, совершенно лишенные пыла и страсти, потому что их не было у художника, фигуры без всякого проблеска души, потому что художник работал не душой, а неким расчетом, потрафляя господствующим взглядам на искусство ваяния и возмещая нехватку чувства неспокойностью и суматошностью своего творения. Что касается естественности, то тут, по-моему, средневековье к совершенству не стремилось. Рядом с какой-нибудь великолепной, безупречной в своей простоте и реальности головой можно увидеть прямо-таки немыслимые формы и сочленения. Художник этого не видел, он выражал своим произведением состояние своего духа, никаких других целей у него не было, и к цельности чувственного восприятия он не стремился, ибо это, во всяком случае в его художестве, его не заботило и никакого недостатка он не замечал. Поэтому и у нас возникает впечатление искренности, хотя мы, в отличие от средневекового творца, замечаем пластические недостатки произведения. И это — лишнее свидетельство превосходного качества тогдашних работ. Чудесные дни провел я с Ойстахом за этими сравнениями и наблюдениями.
Довелось мне вернуться и к картинам старинных, давно прошедших времен. В ранней юности у меня было отвращение к старинной живописи. Мне казалось, что в ней царят темнота и мрачность, не идущие ни в какое сравнение с той веселой прелестью красок, которая представала в новых картинах и виделась мне в природе. Это мнение я, правда, отверг, когда сам стал писать и увидел, что ни в природе, ни даже в человеческом лице нет таких резких красок, какие есть в этюднике, но что зато природа обладает такой силой света и теней, которой я-то уж никакими своими красками передать не способен. Тем не менее я еще не понимал в должной мере того, что совершило искусство живописи в прежние времена. Хотя в чем-то отдельном я продвигался и у меня открывались глаза на многие достоинства старинных картин, я все-таки слишком ограничивался в своих усилиях областью природы, чтобы проявлять живой интерес к чему-то, что сотворено не природой. Поэтому растения, мотыльки, деревья, камни, воды, даже человеческие лица представлялись мне предметами, достойными копирования кистью. Старинные же картины казались мне не копиями, а как бы данностями, драгоценными предметами, где присутствуют вещи, какие принято воспроизводить на картинах. Этот взгляд был полезен для меня тем, что, пытаясь писать творения природы, я не сбивался на подражание какому-нибудь мастеру и в моих работах, при всем их несовершенстве, было что-то очень подлинное и достоверное. Но это же шло мне и во вред: я не учился у старинных мастеров обращению с красками и линиями, а должен был до всего додумываться сам и во многом своей цели не достигал. Хотя позднее я стал больше смотреть средневековую живопись и зимой проводил даже много времени в картинных галереях нашего города, прежнее состояние более или менее бессознательно преобладало, и искусство кисти не нашло у меня той увлеченности, которой оно заслуживало. Разбирая теперь с Ойстахом зарисовки произведений средневековья, рассматривая с ним творения Древней Греции, открывшиеся мне как чудо, сравнивая эти работы с менее старинными работами наших предков и вникая в их различия и связи, я стал и картины моего гостеприимца смотреть иначе, чем смотрел их и другие картины до этой поры. Я не только часто ходил в его картинную и подолгу там оставался, но и спросил каталог картин, чтобы постепенно узнать собранных здесь мастеров, и попросил разрешения ставить по своему желанию ту или иную картину на мольберт, чтобы изучить ее так, как мне хотелось, и часто по нескольку дней рассматривал одну-единственную картину. Какое новое царство открылось моему взору! Если поэты открыли мне мир души, то и здесь тоже был целый мир, это снова был мир души, снова тот же, что и в поэтическом искусстве, мир воспарившей души, но насколько другими средствами он здесь создавался и достигался! Какая сила, какое изящество, какая полнота, какая нежность, как по примеру творца создавалось похожее, такое же, но человеческое творение! Я постигал отношения старинной живописи — у моего друга картины были почти сплошь старинные — с природой. Я увидел, что старинные мастера подражали природе точнее и преданнее, чем новые, что в изучении свойств природы они проявляли несказанное усердие и терпение, большее, может быть, чем я находил в себе, и большее, может быть, чем у многих нынешних ревнителей искусства. Уверенно судить я не мог, потому что слишком мало произведений своего времени я знал и рассматривал так, как рассматривал теперь старые картины, но мне казалось, что глубже проникнуть в сущность природы вряд ли возможно. Я не понимал, как мог я так долго не видеть этого в той мере, в какой я должен был это видеть. Но хотя древние, которыми я теперь занимался, были очень верны действительности, очень внимательны к ней, они никогда не заходили так далеко, как то делал я в своих зарисовках естествоведческих объектов, стараясь передать все их подробности как можно полнее. Это, как я понял, пошло бы во вред искусству, и вместо того, чтобы создавать спокойное общее впечатление, оно погрязло бы в сплошных подробностях. Мастера, представленные в коллекции моего гостеприимца, умели передавать подробности обобщенно и при том простыми средствами, подчас каким-нибудь одним мазком, так что казалось, что различаешь каждую черточку, а присмотревшись, ты понимал, что это лишь следствие широкого и общего взгляда. А такой широкий взгляд обеспечивал им и широту впечатления, которой не добивается тот, кто воспроизводит мельчайшие части в мельчайших подробностях. Я только теперь увидел, какие прекрасные представители рода человеческого живут на холсте, как благородны их части тела, как разнообразны — лучезарны, сильны, умны, мягки — их лица, как аристократичны, даже если это рубище нищего, их одежды и как точно выбрано их окружение. Я увидел, что краски лица и других частей тела — это светящийся свет человеческого существа, а не красящее вещество, которым невежда придает своим портретам противную красноту или белизну, что густота теней такова, какова она и в природе, а окружение пишется еще темнее, чем достигается сила, приближающаяся к той, какую мироздание дает через настоящий солнечный свет, написать который не в силах никто, потому что нельзя окунуть кисть в свет, та сила, что так восхищала меня теперь в старинных картинах. Из природы внечеловеческой я видел светящиеся облака, ясные небеса, пышные, рвущиеся вверх деревья, раскинувшиеся равнины, оцепеневшие скалы, далекие горы, светлые, бегущие ручьи, зеркальные озера и зеленые пастбища, я видел строгие здания, видел так называемую тихую жизнь — в растениях, цветах, плодах, животных, зверьках. Я восхищался умением и умом, с каким все это обдумано и выполнено. Я узнавал, как писали наши предки пейзажи и животных. Меня поражала нежная эмаль, покрывая которой свои картины, художник придавал им прозрачность, поражала мощь, с какою другой художник клал непрозрачные краски и создавал из них гору, чтобы та, ловя и отражая свет, тем самым заставляла и этот свет писать картину, краски для которой на палитре не было. Я узнавал, как художник накладывал на прозрачные краски более густые и плотные, как другой кладет краску на краску широкой кистью, передавая ею переходы и ею же нанося контур. Почему старинные картины мрачноваты, мне было понятно: краски темнеют от масла, а лак постепенно приобретает коричневый цвет. Избегать того и другого осмотрительные мастера умели лучше, чем торопливые, и у моего гостеприимца были картины, которые светились роскошеством красок, сохраняя при этом достоинство и отличаясь насыщенностью цвета, а не красками. Поскольку я уже много занимался красками, я часто подолгу задерживался у какой-нибудь картины, чтобы выяснить, как она написана и каким образом разработана ее тема. У Матильды, в комнатке с розами, куда мой гостеприимец привел меня, чтобы посмотреть живопись и там, висели четыре маленькие картины, две Тициана, одна — Доминикино и одна Гвидо Рени. Все были почти одинакового размера и в одинаковых рамах. Они были самыми лучшими в собрании моего гостеприимца. Чем больше ты их рассматривал, тем больше пленяли они душу. Я, пожалуй, слишком часто просил моего гостеприимца показывать мне эти четыре картинки, и он не уставал отпирать мне женские покои, водить меня в комнату Матильды, оставлять меня с картинами и говорить со мною о них. Иной раз для наилучшего освещения он снимал их и ставил на стол или на кресло. Замечательные дни провел я тогда в доме моего друга. Душа моя пребывала в приподнятом, возвышенном и возвышающем настроении.