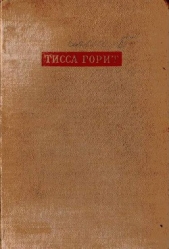Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Книга состоит из романа «Карпатская рапсодия» (1937–1939) и коротких рассказов, написанных после второй мировой войны. В «Карпатской рапсодии» повествуется о жизни бедняков Закарпатья в начале XX века и о росте их классового самосознания. Тема рассказов — воспоминания об освобождении Венгрии Советской Армией, о встречах с выдающимися советскими и венгерскими писателями и политическими деятелями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, тогда все в порядке. Когда вернется Ревекка? Он давно должен быть здесь!
— Бог знает, где он шатается! — сказал Ижак со вздохом.
— Ты сегодня что-то очень часто бога вспоминаешь, Ижак. Это значит, наверное, что твоя хитрая старая голова опять замышляет какой-нибудь грех. А между тем о своих свиньях ты забываешь. Поторопись, а то поздно будет.
— Маргарита следит за ними.
— Какое там следит! Он у тебя всегда бегает за девушками. Этот охотник на комаров, — обратился Михалко ко мне, указывая на старика, — наш пеметинский свинопас.
— Еврей — свинопас? — спросил я удивленно.
— А почему же нет? — ответил Ижак. — Четвероногие свиньи — не антисемиты.
— Ха-ха-ха! — громко засмеялся медвежатник. — Это ты хорошо сказал, Ижак. Но как бы ты хорошо ни говорил, тебе все же надо торопиться.
— Дай мне на дорогу немножко табаку, Григори. После твоих рук у меня сильно болит во рту.
Старик с апостольской бородой набил табаком Михалко свою грязную глиняную трубку, разжег и, кряхтя, встал.
— С этим несчастным зубом ты украл у меня, Григори, целый час… Ну как, придешь вечером?
— Приду. Если Ревекка вернется, приведи с собой.
— Значит, медведь испугался тебя? — снова обратился ко мне Григори, когда старый Ижак ушел.
— Ему и в голову не пришло пугаться! — ответил я.
— А ты испугался?
— Очень.
— Это хорошо, — крикнул Михалко. — Хорошо не то, что ты испугался, а то, что ты откровенно признаешься в этом. Ну, ладно. До сих пор ты в школу ходил?
— Да.
— Учился?
— Да, учился.
— Если учился, то можешь, должно быть, сказать мне, как велика Россия? Если знаешь, скажи.
Я сказал ему.
— Ладно. А можешь ли мне сказать, насколько Россия больше Венгрии?
— В семьдесят один раз, — ответил я после краткого вычисления в уме.
— Вижу, ты действительно учился, — сказал Михалко. — А можешь ли ты мне сказать, кто был Карл Маркс?
Вопрос этот до того поразил меня, что я несколько секунд медлил с ответом.
— Могу. Он был основателем научного социализма.
— Правильно. Теперь скажи мне еще одно. Знаешь ли ты, кто такой Янош Фоти?
После Маркса — Янош Фоти? Я думал, медвежатник шутит. Но большие голубые глаза Михалко смотрели на меня так серьезно, почти испытующе, и его твердое лицо было так строго, что я и на этот вопрос ответил вполне серьезно.
— Случайно знаю. Это берегсасский социалист. Когда он организовал забастовку на кирпичном заводе, я жил еще в Берегсасе. Тогда я видел Яноша Фоти.
— Вижу, у тебя голова на месте, — сказал Михалко. — Но все же, если медведь, которого ты испугался, оказался бы не самцом, а самкой, вряд ли ты сидел бы теперь у меня. А было бы жаль. Надеюсь, ты будешь часто приходить ко мне в гости. Как-нибудь возьму тебя с собою охотиться на медведей.
Кузница стояла около шоссейной дороги. Вдруг со стороны шоссе послышались звуки флейты и заунывное, протяжное пение:
— Ха-хо! Ха-хо! — крикнул Михалко. — Ревекка приехал!
Со стороны шоссе появилась низкая, плечистая фигура еврея с рыжей бородой. Пел он. За спиной у него висел большой узел из зеленого сукна, в левой руке он держал пестрый зонтик.
— Сюда, Ревекка, сюда!
Через несколько секунд Михалко уже пожимал коробейнику руку.
— Новости есть, Ревекка?
— Лучше бы их не было!
— Иван, — обратился Михалко к младшему сыну, — проводи своего приятеля домой.
На прощание медвежатник протянул мне руку, которая по величине могла бы служить веслом для дунайской лодки.
— Скажи мне, — спросил я по дороге Ивана, — почему у этого рыжебородого женское имя?
Иван осторожно огляделся. Хотя поблизости никого не было, он все же ответил шепотом:
— Старик Шенфельд, свинопас, дал обоим своим сыновьям женские имена, чтобы их не забрали в солдаты.
— Их в самом деле не взяли?
— Конечно, забрали. И не только обоих сыновей — Ревекку и Маргариту, но даже трех его дочерей — Дебору, Зали и Сару — тоже призвали на военную службу и только тогда отпустили домой, когда три комиссии единогласно установили, что они действительно девицы. Но об этом все-таки говорить не следует, как бы Ижака еще раз не наказали. Достаточно он уже отсидел — целых восемь месяцев.
— А почему сидел старик? — интересовался я.
— За ростовщичество.
— За ростовщичество? Неужели твой отец дружит с ростовщиком?
Иван посмотрел на меня так, будто усомнился, в своем ли я уме. Укорять меня он не стал, только дружески упрекнул.
— Как ты можешь так говорить? Ижак — ростовщик? Неужели ты на самом деле думаешь, что в Венгрии за ростовщичество арестовывают ростовщиков?
— А как же мне думать иначе?
По лицу Ивана было видно, что он стыдится моей наивности.
— Знаешь, — сказал он после короткого молчания, — старику Ишаку Шенфельду первому пришло в голову, что надо организоваться и требовать повышения платы.
— Что же это имеет общего с ростовщичеством?
— Видно, что ты чужестранец! — сказал Иван Михалко, неодобрительно качая головой.
У костра
На другой день после обеда медвежатник опять послал за мной.
Кроме Михалко, я застал в кузнице Хозелица.
— Молчать умеешь? — спросил меня Михалко.
— Умею.
— Умеешь ли писать, я, конечно, спрашивать не буду. Сегодня вечером, когда взойдет первая звезда, Иван придет за тобой. Принеси с собой бумагу и карандаш.
— Григори, ты делаешь глупость, — заговорил Хозелиц. — Зачем мы будем беспокоить молодого господина, отнимая у него вечерний отдых!
— Не лицемерь, Абрам. Ты ведь первый говорил мне об этом парне. Ты предлагал, чтобы я его прощупал. Я и прощупал его. Чего ты еще хочешь? Прощупать так, чтобы кости переломать? Этого ты хочешь?
— Я только хочу, Григори, чтобы ты не наделал глупостей.
— Паршивый ты человек, Абрам, на редкость паршивый. Что бы мы ни начали, ты всегда болтаешь одно и то же: не наделайте глупостей, не наделайте глупостей. А когда выяснится, что дело, которое ты считал глупостью, удалось, ты всегда бормочешь: надо было это сделать давно. Ты не боишься, что нам надоест тебя слушать?
— Я боюсь только одного, Григори: так как голова у тебя не такая сильная, как кулак, то ты думаешь кулаком, а не головой. Если бы ты употреблял для этой цели голову, то рано или поздно понял бы, что нам нужен не только такой человек, как ты, который всегда верит, что все должно удаться, но и такой, как я, который знает, что начатые нами дела никогда не удаются полностью.
— Жаль, что ты не сделался раввином, Абрам.
— Действительно, жаль, — согласился Хозелиц. — Если бы я был раввином, я обратил бы тебя в свою веру и назначил бы сторожем в синагогу. Как бы ты вышвыривал из синагоги тех, кто не заплатил общинного налога!
— Я могу тебе показать, как я сделал бы это!
Он схватил Хозелица, как маленького ребенка, и стал раскачивать в воздухе, как будто хотел далеко отбросить. Потом посадил обратно на пень.
— Теперь ты, по крайней мере, знаешь, что тебя ожидает, если ты будешь слишком много болтать!
Когда стемнело, мы с Иваном отправились в лес.
В лесу было так темно, что я не видел ничего в двух шагах. Иван вел меня за руку, но, несмотря на это, я все же не раз натыкался на деревья.
— Как ты узнаешь дорогу? — спросил я.
— Чувствую, — ответил Иван.
Над нашими головами кричала сова.
Когда лес стал редеть, я увидел издали цель нашего путешествия — горящий на лесной поляне костер. Вокруг костра сидело человек двенадцать — четырнадцать. Венгры, русины, евреи. И среди них медвежатник. Все они курили трубки.