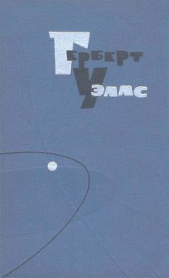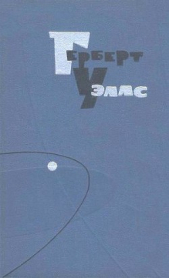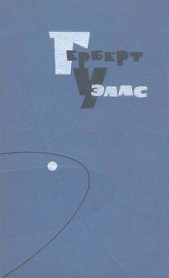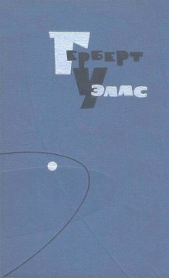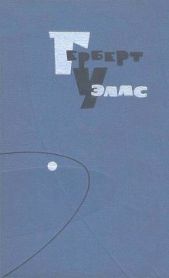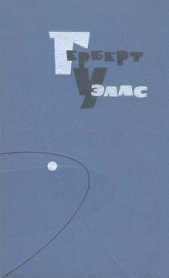Собрание сочинений в 15 томах. Том 11
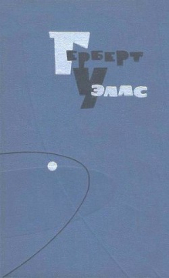
Собрание сочинений в 15 томах. Том 11 читать книгу онлайн
Герберт Уэллс. Собрание сочинений в 15 томах Том 10
Жена сэра Айзека Хармана (переводчик: Виктор Хинкис)
Билби (переводчики: Р. Померанцева, Эдвадра Кабалевская)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тетка простудилась, ухаживая за дядей, и скончалась от воспаления легких. Два или три дня он лежал, не зная о своей утрате.
Почти до самого конца он надеялся на выздоровление.
— Я — стреляная птица! — твердил он и не высказал мне своей последней воли.
Узнав наконец (хотя он вряд ли полностью осознал этот факт) о смерти жены, он как-то странно притих.
— Умерла, — глухо отозвался он, когда ему в осторожной форме сообщили о кончине жены в ответ на его вопрос о ней, и вздохнул. — Умерла. Доркас умерла, — повторил он и больше о ней не говорил. Он как бы замкнулся в себе и ушел в свои мысли. Умер он через три дня на руках деревенской сиделки.
Перед концом он совсем не страдал, погрузившись в легкое бредовое забытье. Должно быть, он пребывал где-то близ своего бога, которому всегда служил; казалось, все в мире стало теперь ему ясным и понятным.
— Какое чудо — цветы, какое чудо — звезды, — шептал он, — какое чудо — сердце человека! Зачем сомневаться хоть на мгновение, что все создано для блага? Зачем сомневаться? — И вдруг как бы случайно прибавил: — Всю свою жизнь я ходил по земле и не удивлялся, как прекрасны кристаллы, как прекрасны драгоценные камни. Черная неблагодарность! Все принимал как нечто само собой разумеющееся. Все хорошее в жизни принимал как должное, а малейшее неизбежное испытание — как бремя!
Прошло много времени, пока он вновь заговорил Он уже забыл о драгоценных камнях и кристаллах. Он о чем-то спорил сам с собою, обнаруживая явное пристрастие.
— Бремя всегда дается нам по силам. Если же иной раз оно кажется тяжким… Воистину, несправедливости не существует.
Голос дяди замер, но через некоторое время я услыхал его шепот.
Последнее, что я помню о нем, — это его голос, глухо прозвучавший в тишине комнаты, тускло освещенной лампой, когда он вдруг назвал меня по имени. Должно быть, он заметил, что я стою в дверях. Окно его спальни было раскрыто настежь, но ему не хватало воздуха.
— Свежего воздуха, — твердил он, — побольше свежего воздуха. Выведите их всех на свежий воздух; всех на свежий воздух. Тогда все будет хорошо!.. Держите окна настежь. Всегда держите окна настежь. Шире, как можно шире… И ничего не бойтесь, ибо все совершается по воле божьей, — хотя нам этого и не понять. Да, все по его воле…
Лицо его выражало напряженное внимание. Вдруг веки его опустились, он перестал смотреть на меня, дыхание стало затрудненным, замедленным и вырывалось из груди со свистом.
Долгое время он хрипел; никогда не забуду его агонии, Хрип то замолкал, то возобновлялся, то опять затихал. Но вот морщины на лице его разгладились, и оно посветлело; он медленно раскрыл глаза и спокойно, пристально поглядел перед собой.
Я смотрел на него, ожидая, что он скажет, но он безмолвствовал. На меня напал страх.
— Дядя! — прошептал я.
Деревенская сиделка дернула меня за рукав.
Утром, когда меня позвали к нему, лицо его уже представляло собой маску, и глаза были навсегда закрыты. Черты его сохраняли приветливое выражение, но казалось, он был погружен в созерцание какой-то несказанной тайны.
Мраморная статуя его предка в приделе Солсберийского собора — вылитый дядя. Даже руки у него были так же скрещены.
Мне так хотелось говорить с ним, поведать ему многое-многое, чего я не успел высказать, но мне было ясно, что отныне между нами расторгнута всякая связь.
Никогда еще мир не казался мне таким пустым и холодным, как в это солнечное утро. Я сидел у изголовья дяди и долго смотрел на милую мне маску, такую знакомую и уже ставшую такой чужой, и тысячи мыслей проносились у меня в голове, и самых возвышенных и самых низменных. Я горевал о своей утрате и в то же время — я это хорошо помню! — подло радовался тому, что вот я жив.
Но вскоре мною овладело ощущение непривычного холода в сердце. Это чувство не было похоже на страх — оно было слишком глубоким и приглушенным. Я пытался прогнать это ощущение. Я подошел к окну — залитый солнцем безмятежный пейзаж как будто потерял волшебную веселость, которою раньше был напоен. Те же знакомые крыши пристроек, та же серая каменная ограда двора, выгон и престарелый пони, живая изгородь и крутой склон холма. Все было на месте, но все стало каким-то чуждым.
Холод, пронзивший меня при виде дядиного лица, не уменьшился, а только усилился, когда я оглядел привычную обстановку; мне думается, это было не физическое ощущение, не замирание сердца, а какой-то душевный холод, это было совсем новое чувство, чувство одиночества, и сознание, что мне больше не на кого опереться в этом мире, который, быть может, совсем не таков, каким мне представляется.
Я отвернулся от дяди, испытывая смутный протест против этой перемены.
Опять мне захотелось сказать ему что-нибудь, — и я убедился, что сказать мне нечего.
4. Любовь и Оливия Слотер
Некоторое время жизнь моя текла без существенных перемен. Предчувствие одиночества, овладевшее мною у смертного одра дяди, нависло надо мной; оно все усиливалось, но я боролся, я старался изгнать его из своей души, что посоветовал бы мне и дядя, будь он в живых.
Окончив курс, я снял скромную квартирку в деревушке Кэрью-Фосетс, близ Борз-хилла, на окраине Оксфорда. Несколько приятелей и знакомых по университету составляли всю мою компанию, и казалось, лучшего места я нигде не найду. Я мечтал о длительных поездках в Альпы, в Скандинавию, в Африку и на Ближний Восток, а также о пешеходных прогулках по Лондону, с целью основательного его изучения. Рассчитывал я также окунуться в жизнь парижской богемы. В Париже я надеялся, как это было тогда в моде, познакомиться с американцами и с русскими и составить себе приблизительное представление о странах, из которых они приехали. К России же как таковой я повернулся спиной: это была дикая страна, где пользовались несуразным алфавитом и изъяснялись на неудобоговоримом языке. Отмахнулся я и от блеска и шума Нью-Йорка, от его веселья, яркого света и экзальтации, как от неприятного факта, которого можно избежать. Если людям нравится ездить туда, быть американцами и создавать свой собственный мир, из этого не следует, что это должно меня интересовать.
Мне казалось, что я не лишен известной живости ума и одаренности, хотя никогда ясно себе не представлял, что это за дарования; во всяком случае, мне хотелось получше устроиться в жизни. Я сознавал, что мне повезло, что я нахожусь в привилегированном положении, и считал, что должен принести соответствующие плоды. Мне думалось, что лучше всего применить свои дарования в области искусства. Хорошо бы, например, написать роман-трилогию, — в те дни пользовался уважением лишь романист, производивший на свет тройню; подумывал заняться изучением картинных галерей Европы, на манер Рескина, и записывать свои впечатления; завести печатный станок для издания ряда выдающихся произведений или использовать опыт, приобретенный в Драматическом обществе, для писания пьес. Подумывал я и о поэзии, вынашивал какую-то поэму, но вскоре решил, что технические трудности этого искусства стесняют полет моего творческого воображения. Я не был равнодушен к социальным вопросам того времени и решил, что моя художественная деятельность, в чем бы она ни состояла, должна иметь какую-нибудь высоконравственную и гуманную цель.
Приятели уговорили меня принять на себя обязанности почетного секретаря дышавшего на ладан «Клуба стрелков из лука» — и в этом искусстве я достиг значительных успехов.
Вопрос о своих жизненных задачах я обсуждал со всяким, кто согласен был меня слушать; особенно часто я беседовал с моим другом Лайолфом Грэвзом, с которым совершал дальние прогулки, а также с Оливией Слотер, прелестной девушкой, о которой я уже упоминал; мое юношеское восхищение и дружба вскоре перешли в великую идеальную любовь! Как хороша была эта блондинка с тонкими чертами. Даже в настоящее время я мог бы припомнить множество очаровательных подробностей, если бы мне вздумалось этим заниматься. Волосы у нее были белокурые с золотистым отливом. Она сияла в окне лавки между пачками табака и папирос, выставленными в витрине, как солнце сияет сквозь листву. В мои студенческие дни она часто подходила к дверям лавки и улыбалась мне, когда я проходил мимо по какому-нибудь делу, — и удивительно, до чего часто у меня случались дела в той стороне! Она смеялась и бровями и глазами; рот у нее был прямо классических очертаний, и когда она улыбалась, верхняя губка слегка приподнималась, обнажая ослепительно белые зубы.