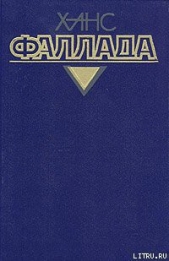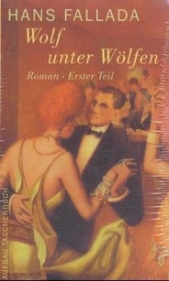Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды

Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды читать книгу онлайн
Роман рассказывает о злоключениях «маленьких» людей в Германии накануне краха буржуазного демократизма и утверждения в стране фашистской диктатуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, нет и нет! Она злая, она мучительница. Сегодня одно, завтра другое. Такую не удержать…
Вот что-то тихо прошелестело за спиной, наверное, она все же вошла в комнату — кажется, дверной замок тихонько щелкнул? Может. она уже стоит за его стулом, может, уже протягивает руку, чтобы запрокинуть его голову для поцелуя, может, она уже готова упасть в его объятья… Что же она медлит?
Эта ночь с грохочущими внизу поездами оглушает его мертвой тишиной! Кажется, все замерло, затаив дыхание в напряженном ожидании — чего? Новой жизни? Бедное, слабое, мятущееся сердце… Зачем в ту ночь она оказалась в Хаммер-парке, зачем сидела на одной с ним скамье, но с другим?
Но ведь он-то не искал встречи с ней! И комнату снял у совсем других людей. Но потом второпях сменил ее на первую попавшуюся. И там вдруг встретил ее. Что это — случай? Разве от случая, расставляющего свои западни, не уйдешь? И бороться с ним бесполезно?
То ли дело — тихая, спокойная камера. Сидишь, вяжешь сети, выполняешь норму, получаешь дополнительное питание — горшок сала, перетопленный портными, — и две книжки в неделю. Можно бы выйти сейчас на улицу, на Менкебергштрассе всегда стоит полицейский, разбить витрину и вытащить что-нибудь оттуда — дамскую сумочку или фотоаппарат. Тебя посадят, и наступит наконец желанный покой — ни проблем, ни забот, ни борьбы.
Разве она не позвала его: «Ну иди же!»
Нет, он не пойдет. Сейчас не пойдет. А может, и никогда.
Другие и не подозревают о том, что существует такой простой выход, ничего о нем не знают. Одни открывают газ, другие вешаются или глотают яд и подыхают в собственной блевотине с вздувшимися животами и закатившимися глазами… А он просто пойдет, стащит что-нибудь и сразу обретет покой в тиши и вечном смирении, по ту сторону жизненных бурь.
Маак тоже все это знает, знают и Монте, и Енш, и Эзер, и Дойчман, и Фассе — каждый из них знает! А другим этого не понять. Не понять, почему отсидевшие свой срок стали такими, не понять, что их изменил сам воздух тюрьмы, что в их крови что-то разложилось, а в мозгу сместилось. Вся их жизнь здесь, на воле, висит на ниточке, и эта ниточка в любой миг может оборваться.
Он мог бы прикончить Лизу или ее мать, другим до такого ни в жизнь не додуматься: «Как это? И почему?! И зачем?!» А для него это в порядке вещей. Он прожил пять лет с сутенерами, убийцами, грабителями — и знал, как просто это сделать, ничуть не труднее, чем тысячи других вещей, которые приходится делать в этой жизни, и уж наверняка легче, чем повеситься.
Люди на воле какие-то чудные, никак не могут понять того, что ясно каждому, кто сидел. Да, он не приспособлен к жизни, да, он закоснел в своих пороках, да, он паразит на теле общества. Все это так. Ну и что же, что так. Вот он сидит, Вилли Куфальт, ему за тридцать, но он, словно незрелый подросток, пасует перед любой трудностью. Разве он всегда был таким? Нет, таким он стал, таким его сделали! Его там сломали! Вот и выражение — «что ты плетешь?», — оно ведь тоже в тюрьме родилось, потому что в тюрьме раньше, наверное, плели корзины. Вообще-то плести корзины — нормальный ручной труд, не хуже любого другого, только не в тюремных стенах. А в тюрьме из него родилось: «Что ты плетешь?» Куфальта вернее было бы спросить: «Что ты вяжешь?», потому что он пять лет подряд только и делал, что вязал сети. А теперь сам в них попался. На всю жизнь. На — всю — жизнь.
Разве она не позвала его: «Ну иди же!»? Да, он пойдет к ней или нет, не пойдет, но, конечно, все же пойдет. Он привык приспосабливаться, привык делать то, чего от него ждут, и всегда будет делать то, что потребуют. К этому его приучили, это вошло ему в плоть и кровь: «Иди в эту дверь…», «Сегодня напишешь письмо…»
Так-то оно так.
Но сегодня он будет посиживать у окна. А она пускай ждет. Ему тоже пришлось ждать — сперва пять лет, потом три с половиной недели и еще четыре, — когда же некая молодая особа соизволит прийти к нему в постель.
Вихрь страсти, ее чудные волосы, ее тело.
Как хорошо: вихрь — волосы — тело.
Глупо было заводить собственное бюро, зря он уговорил Маака. И сам до того распалился, что убедил шесть торговцев продать ему в рассрочку по одной машинке, сунув им под нос один-единственный документ — свидетельство о прописке. Но себя-то ведь не обманешь… Куда ему до них. Он пишет «господин» через «а», ему бы спать с простой девушкой, а он прилип к этой Лизе…
— Послушай, Лиза… — говорит он.
Ни звука.
Наверняка залезла в его постель, как в тот раз, и уже спит. Ах, эта шейка, эта слегка изогнутая нежная шейка, сквозь кожу которой едва заметно проступают позвонки…
— Лиза, любимая моя…
Он оглядывается.
Кровать пуста, в комнате никого нет, дверь прикрыта снаружи.
И ведь он это знал, все время знал, просто фантазировал. Может, даже к лучшему, что она ушла? Мечта всегда лучше, чем ее исполнение, эту премудрость он постиг еще в тюрьме. Желать женщину лучше, чем обладать ею, — тюремная премудрость. И вообще любой замысел лучше, чем его осуществление, — тоже вынесено из тюрьмы.
Немного помявшись в нерешительности, он начинает медленно раздеваться. Белье аккуратно кладет на стул, пиджак, жилет и брюки вешает на плечики. Потом моет лицо и руки, полощет рот…
А потом берет с кровати подушку и одеяло, босиком тихонько крадется в переднюю, к дверям ее комнаты, кладет на пол свою постель, возвращается к себе, чтобы погасить свет. Потом ложится у ее двери и заворачивается в одеяло.
В ее комнате темно, сквозь дверную щель не видно даже слабого проблеска, она, наверно, уже спит, не слышно ни звука.
А он лежит без сна, и ум, и душа его заняты одной мыслью: «Вот я лежу здесь и прошу тебя: не приходи, не гони меня. Мне так приятно лежать у твоей двери и знать, что ты меня презираешь…»
Наконец он все-таки засыпает…
А просыпается от ее взгляда. Она стоит рядом на коленях, обхватила его шею руками, голову прижала к груди.
— О, любимый мой, — шепчет она. — Любимый… Тебе так тяжко?
— Нет, мне хорошо, — шепчет он в ответ, еще не совсем проснувшись. — Мне очень хорошо…
— Уже очень поздно, любимый, — шепчет она. — Тебе надо вставать. И мне пора бежать на работу. Но сегодня вечером… Правда, сегодня вечером мы…
— Оставь меня, не мучай, пусть все будет как было.
— Все будет хорошо, — опять шепчет она. — Я постараюсь, чтобы тебе было хорошо. Ведь ты сумеешь прийти пораньше, правда? Я буду ждать.
— Оставь меня, оставь!
— Придешь пораньше? Совсем-совсем рано?
О, как пахнет ее грудь!
— Постараюсь… Как можно раньше… Как только смогу…
— Любимый мой!
— Что ж, неплохо, — говорит Бер. — Совсем неплохо. — Он наугад выхватывает из первых десяти тысяч конвертов то один, то другой и просматривает адреса. — Если и дальше так пойдет, между нами не возникнет никаких шероховатостей.
Слегка поклонившись в знак благодарности, Куфальт заверяет:
— Дальше пойдет еще лучше, намного лучше. Как только втянемся в работу по-настоящему…
— Что ж, неплохо, господин Мейербер, — повторяет Бер и приветливо смотрит на Куфальта. — Итак, до свиданья.
Но Куфальт не трогается с места, да и Монте недовольно хмурится.
— Нам бы немного денег, господин Бер, самую малость.
— Ладно, ладно, — сразу соглашается Бер. — Вы, значит, в самом деле хотите каждый день получать то, что заработали. Ну что ж. Сколько вам причитается?
— Девяносто три пятьдесят, — отвечает Куфальт.
— Хорошо. Вот вам распоряжение для кассы. Вам сейчас же выдадут деньги. До свиданья.
— Большое спасибо. До свиданья!
Куфальт и Монте, довольные, выходят из здания фирмы: получается почти по двенадцать марок на брата, подумать только, и это за один-единственный рабочий день!..
— Стой! Там кто-то прячется за афишной тумбой! А ну, Монте, быстро туда!
Оба мчатся к тумбе, обегают ее с двух сторон: никого!
— Значит, привиделось. Но я мог поклясться, что за нами следил Яблонски из «Престо», — знаешь, тот, что прихрамывает.