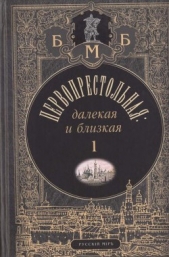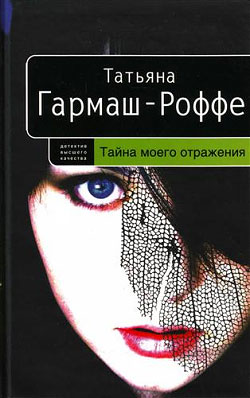Москва и москвичи
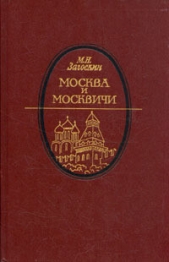
Москва и москвичи читать книгу онлайн
Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые М. Н. Загоскиным
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Андрей Иванович. Да ты что хочешь говори, а недаром же эта книга заслужила такой колоссальный успех. Поверь мне, если б сочинитель не имел высокой нравственной цели, если б он не раскрывал нам всю глубину порока и разврата, до которых может достигнуть человек с необузданными страстями…
Степан Степанович(улыбаясь). И которые может только обуздать не провидение, не вера, — об этом и речи нет, — а какой-то немецкий принц Родольф, человек, впрочем, весьма замечательный как отличный полицейский сыщик и первой силы кулачный боец…
Андрей Иванович. Шути себе, шути! А все-таки эта книга нравственная…
Степан Степанович. Да, точно так же, как записки знаменитого парижского мошенника Видока или «Жизнь московского сыщика, известного плута Ваньки Каина». Конечно, этого рода сочинения только что гадки, а вот, например, на этих днях мне случилось быть в обществе литераторов, и один из них, говоря об известной сочинительнице соблазнительных романов, госпоже Жорж Занд, не постыдился назвать ее великой женою и честью нашего века.
Андрей Иванович. Так что ж?… Разве Жорж Занд явление обыкновенное? Разве талант ее не велик и не самобытен?… Неужели ты будешь спорить против этого?
Степан Степанович. Нет, не буду. Эта женщина действительно одарена большим и, к несчастию, необычайно увлекательным талантом. Но уж, конечно, она не великая жена и не честь нашего века. Великая жена!.. Эта проповедница разврата, которая, прославив себя беспутным поведением, старается во всех сочинениях своих доказать, что законное супружество — постановление безнравственное и унижающее достоинство женщины!
Андрей Иванович. Да где она это говорит?
Степан Степанович. Везде, где только может. Это господствующая мысль во всех ее сочинениях. В одном месте она говорит даже просто: «Cette infame institution de mariage». Кажется, это ясно.
Андрей Иванович. Да, это уж слишком резко!.. Ну, конечно, и я не стану спорить с тобою: сочинитель «Парижских таинств» немножко грязненек, а Жорж Занд не слишком нравственная писательница, но зато какие таланты!.. Как они оба владеют пером! Сколько красот рассыпано в их сочинениях!..
Степан Степанович. Как владеют пером!.. Вот то-то наша и беда! Мы станем восхищаться всякой мерзостью, лишь только бы эта мерзость была облечена в изящную форму…
Я. Однако ж позвольте вам, господа, заметить: вы, кажется, стали говорить о картах?…
Степан Степанович. А вот сейчас к ним вернемся. Я хотел только доказать, что в обыкновенной общественной болтовне мало доброго, а разговаривая о словесности, услышишь такие вещи, что у тебя вся желчь придет в движение, начнешь спорить, разгорячишься, выйдешь из себя…
Андрей Иванович. Зачем горячиться?
Степан Степанович. Зачем?… Не могу же я слышать равнодушно, когда хвалят с восторгом яд потому только, что этот яд подслащен…
Андрей Иванович. Эх, мой друг, да мы должны отделять искусство исполнения от самой цели!
Степан Степанович. Вот уж этого я никак не умею. По-моему, как бы ни было вкусно отравленное питье, а все-таки оно яд. Как ни усыпай цветами грязь, а все-таки эта грязь останется грязью.
Андрей Иванович. Ну, в этом с тобою не все будут согласны.
Степан Степанович. Оттого-то, мой друг, я и не люблю литературных и ученых бесед. Зачем без всякой пользы расстраивать себя, надсаживать свою грудь?… То ли дело в преферанс, разумеется по маленькой: твой проигрыш для тебя нечувствителен, выигрыш никого не разоряет. Шутишь, забавляешься; заставишь поставить ремиз — смеешься; тебя обремизят — также смеешься. Ничтр не тревожит твоей желчи, кровь не волнуется, а время идет да идет!..
Андрей Иванович. Да, конечно, время проходит, и с большою пользою.
Степан Степанович. По крайней мере, без большого зла, мой друг, а в нашем грешном быту и то слава богу.
Андрей Иванович. Да ты себе что хочешь говори, а я все-таки стою в том, что эти карты — чума и язва нашего общества… Да, да!.. Я ненавижу их! И если б только мог, то собрал бы карты со всего света, сложил бы из них огромный костер и зажег бы его собственной моей рукою!
(Степан Степанович смеется.)
Я. Ну, Степан Степанович, что бы вы тогда сделали?
Степан Степанович (продолжая смеяться). Что бы сделал?… Я бросился бы на этот костер, сложенный из карт, и сгорел бы вместе с ними!
Выход третий
I
Несколько слов о наших провинциалах
Ну, что за общество!
То харя, то урод! Здесь вся кунсткамера
……
Какая вежливость, какие обращенья!
Все эти чучелы похожи ль на людей?
Без вкусу, без ума, совсем без просвещенья.
Давно уже я не беседовал с вами, любезные читатели, не потому, чтоб я боялся надоесть вам моею болтовнёю, мне это и в голову не приходило: ведь дети и старики (что, по мнению некоторых, одно и то же) никогда об этом не заботятся, — им бы только болтать. Вы также ошибетесь, если подумаете, что я так долго молчал потому, что мне нечего было вам рассказывать, — помилуйте!.. Уж я вам докладывал, что Москва не город, не столица, а целый русский мир; что в ней собраны вместе все образчики главных начал, составляющих то огромное тело, которому Петербург служит главою, а Москва — сердцем. Так неужели я мог в двух небольших книжках высказать вам все то, что можно сказать о нашей матушке Москве православной?… О, нет!.. Была бы только охота, а поговорить есть о чем; и я, верно бы, продолжал забавлять или усыплять вас моими рассказами, если б не был занят другим. Вот уж около года мой домик на Пресненских прудах стоит, как сиротинка, с запертыми воротами и затворенными ставнями; мой широкий двор зарос крапивою; мои акации, бузина и сирени заглохли травою; моя дерновая скамья, с которой я так часто любовался изгибистым бегом Москвы-реки, развалилась и стала похожа на небрежно засыпанную могилу. После этого вам нетрудно будет отгадать, что меня не было в Москве. Я ездил по домашним делам верст за тысячу; прожил долго в Калужской губернии, потрудился, поработал, нагулялся досыта по этим некогда дремучим Брынским лесам; погостил несколько дней в селе Толстошеине, в котором, говорят, жил в старину какой-то боярин в великолепных хоромах с вышками и теремами. Теперь на месте этих хором выстроен обширный железный завод. Видно, везде промышленность и общеполезные заведения вытесняют понемногу русских бояр из их наследственных дедовских палат. Вот, посмотришь, у нас в Москве: в этом старинном боярском доме — фабрика, в том — училище, в одном — больница, в другом — трактир; да так и быть должно. У нас не было ни майоратов, ни наследственной аристократии, так диво ли, что дедушка давал роскошные пиры и жил в огромных палатах, а внук сзывает гостей на чашку чаю и живет скромнехонько в деревянном домике. Оно, дескать, и приютнее, и комфортабельнее, и опрятнее, да и печей-то поменьше надобно топить.
Вы уж знаете, любезные читатели, что я, как истинный москвич, немножечко ленив, тяжел на подъем и без крайней надобности ни за что бы не решился уехать надолго из Москвы. Обыкновенно все мои поездки ограничивались посещением некоторых подмосковных, редкими прогулками в Новый Иерусалим и довольно частыми путешествиями в Троицкую лавру, — то есть в течение тридцати лет я ни одного разу не был за границею Московской губернии. Разные домашние обстоятельства, о которых рассказывать я полагаю излишним, вынудили меня расстаться на целый год с моим уютным домиком, со старинными друзьями, со всеми удобствами столичной жизни и ехать добро бы еще, за границу, а то, страшно вымолвить, — в самую глубь России!.. Не подумайте, любезные читатели, что это ирония или шутка, — нет. Я струсил не шутя, отправляясь в дорогу; и правду сказать, было от чего призадуматься!.. Тому, кто живет постоянно в столице, трудно следить за изменением нравов и обычаев наших провинциальных жителей; бывая по своим делам в Москве, они не всегда появляются в обществе, а сверх того человек заезжий обыкновенно старается приноровиться к обычаям и принятым условиям города или общества, в которое он попал случайным образом. Чтобы изучить нравы, узнать обычаи и получить понятие о степени просвещения не только целого общества, но одного человека, надобно застать его, так сказать, врасплох, подсмотреть его домашний быт, пожить с ним вместе. В противном случае понятия ваши об этом человеке будут всегда поверхностны и неверны. Строго придерживаясь этого правила, я не дозволял себе никакого собственного суждения о наших провинциалах, но зато слепо верил, что они с необычайной точностию и глубоким познанием дела описаны, изображены и выведены на сцену в некоторых современных повестях, романах и комедиях. «Не может быть, — думал я, — чтоб эти господа сочинители писали наобум…» А жаль, истинно жаль!.. Ну, не грустно ли подумать, что все наши провинции заселены помещиками, которые вполне оправдывают обидное название северных варваров — название, данное нам французами, вероятно, потому, что мы за пожар Москвы не отомстили разорением Парижа. Волосы становятся дыбом, когда видишь в какой-нибудь комедии или читаешь в каком-нибудь романе, что за народ эти русские провинциалы!.. Все, от первого до последнего, такие уроды, что не дай, господи, не только с ними жить, да и на улице-то повстречаться. И все как будто бы в одну форму вылиты; только и есть между ними разницы: один невежда-глупец, другой невежда-мошенник; тот пошлый дурак и, разумеется, невежда, а этот естественный плут — а все-таки невежда!.. Ну, истинно, не на ком душе отдохнуть!.. Иным это очень нравится — смешно!.. А я так, бывало, чуть не плачу… Ах, матушка наша святая Русь!.. Да что же это с тобою делается?… В столицах народ становится просвещеннее, — конечно, и мы идем нога за ногу, а все-таки подвигаемся вперед; так отчего же провинциалы-то наши все пятятся назад? Вот уже шестьдесят четыре года, как Фонвизин вывел на сцену русских провинциалов Скотинина, Простаковых, Митрофанушку, да зато рядом с ними поставил милую и любезную девицу, благородного и добросовестного чиновника, исполненного чести, умного старика и скромного, образованного молодого человека. А теперь заезжай в какой-нибудь губернский город — варварство, невежество!.. Ни одного человеческого чувства, ни одной благородной мысли — ну, хуже всякой Лапландии!.. А туда ж, ездят на лошадях и в каретах, словно европейцы какие!.. И с этими-то людьми я должен буду жить не месяц, не два, а, может быть, с лишком год! Говорят, что все невежды по какому-то врожденному инстинкту ненавидят человека просвещенного, и если он хочет жить с ними в ладу, то должен непременно придерживаться русской пословицы: «С волками жить — по-волчьи выть», то есть гулять вместе с ними да похваливать их домашнюю наливочку и полынковое винцо, есть медовое варенье, играть по пятаку в преферанс, соглашаться с ними, что просвещенье — чума, а книги — сущий яд; что тот помещик, который более думает о благосостоянии своих крестьян, чем о своих доходах, — пустой и даже опасный человек, потому, дескать, что он этим примером развращает и чужих крестьян; что всякая ученость и философия не стоят одной русской пословицы: «Сухая ложка рот дерет» — и что судья, который служил в теплом местечке и не умел порядком руки нагреть, — простофиля и дурак; что ум дан человеку не на то, чтоб тратить его на бесполезное ученье да на разные финты-фанты, немецкие куранты, а на то, чтоб домик нажить, дорого продать, дешево купить, с умным человеком держать ухо востро, глупого на бобах провести; одним словом, чтоб не быть в глазах провинциалов каким-нибудь выскочкой, гордецом и даже вольнодумцем, должно непременно скрывать свое презрение к этому варварскому образу мыслей, слушая какое-нибудь нелепое суждение, кивать в знак согласия головою, одобрительно улыбаться и, хотя изредка, проклинать вместе с ними это демонское наваждение, которое называют образованностию, просвещением и наукою. Теперь вы видите, любезные читатели, что мне было от чего сокрушаться сердцем и горевать, расставаясь на целый год с Москвою. «Боже мой, — думал я, — ну, если эта отвратительная картина общего невежества и нравственного разврата до того подействует на мою душу, что я стану меньше прежнего любить свое отечество?…» А ведь это дело возможное. Хотя, по милости некоторых писателей, я давно уже имел весьма выгодное понятие о наших провинциалах; но ведь большая разница — читать о чем-нибудь или видеть то же самое собственными глазами. Вы прочтете без особенного отвращения полный курс анатомии; но не угодно ли вам пожаловать туда, где эта наука преподается практически: посмотрите, как режут и вскрывают полусгнивший труп человека, в котором нет уже ничего человеческого; полюбуйтесь его растерзанными членами, подышите этим заразительным воздухом, и тогда вы поймете, что между описанием какого-нибудь предмета и самим предметом бывает иногда неизъяснимая разница.