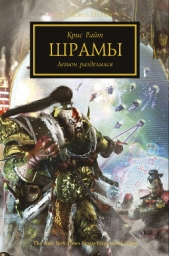Обретенное время

Обретенное время читать книгу онлайн
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Но если она все-таки не умерла, то почему же ее больше нигде не видно, да и мужа ее?» — спросила одна старая дева, любившая сострить. — «Да говорю же я тебе, — ответила ее мать, которая, несмотря на свой шестой десяток, не пропускала ни одного празднества, — потому что они стары: в этом возрасте больше не выходят». Казалось, перед кладбищем есть целое поселение стариков с лампадками, всегда зажженными в тумане. Г-жа де Сент-Эверт положила дебатам конец, рассказав, что графиня д'Арпажон умерла где-то год назад после долгой болезни, а потом маркиза д'Арпажон тоже умерла, причем очень быстро, «без каких-то особых симптомов», — смерть, сходная со всеми этими жизнями, объяснившая тот факт, что прошла незамеченной, извиняя всех сбитых с толку. Услышав, что г-жа д'Арпажон действительно умерла, старая дева бросила на мать встревоженный взгляд, так как боялась, что известие о смерти одной из ровесниц «потрясет мать»; она уже предвосхищала следующее объяснение ее кончины: «Ее буквально потрясла смерть г-жи д'Арпажон». Но напротив, самой матери старой девы всякий раз, когда какая-либо особа ее возраста «исчезала», казалось, что она одержала победу в состязании с видными конкурентами. Старая дева отметила, что мать, без какой-либо досады сообщившая, что г-жа д'Арпажон заключена в жилища, откуда редко выходят усталые старики, еще меньше огорчилась, узнав, что маркиза вошла в селение неподалеку, откуда уже нельзя выйти. Безразличие матери позабавило едкий ум старой девы. Чтобы повеселить друзей, она придумала уморительную историю о том, с каким весельем, как она утверждала, ее мать произнесла, потирая руки: «Боже мой, и действительно эта бедная г-жа д'Арпажон умерла». Даже тем, кому не нужна была ее смерть, чтобы насладиться собственной жизнью, она доставила удовольствие. Ибо каждая смерть упрощает нашу жизнь, избавляет от необходимости выказывать признательность, наносить визиты. Вовсе не так смерть г-на Вердюрена была воспринята Эльстиром.
Одной даме было пора, она спешила с другими визитами, на чаепитие с двумя королевами. Это была известная великосветская кокотка, с которой я некогда дружил, принцесса де Нассау. Если бы ее рост не уменьшился, в силу чего она (потому что теперь голова была намного ниже, чем некогда), словно бы, как говорится, одной ногой стояла в могиле, никто бы и не сказал, что она постарела. Она так и осталась Марией Антуанеттой с австрийским носом [188] и нежным взглядом — законсервированной, набальзамированной тысячью восхитительно соединенных притирок, и лицо ее лиловело. По нему блуждало смущенное и мягкое выражение, ибо она обязана была уйти, и нежно обещать вернуться, и улизнуть украдкой, — все это объяснялось сонмом высоких особ, ее ждущих. Рожденная разве что не на ступеньках трона, замужняя три раза, долго и роскошно содержанная значительными банкирами, не считая тысячи фантазий, в которых она себе не отказала, она легко несла под платьем, сиреневым, как ее восхитительные круглые глаза и накрашенное лицо, несколько спутанные воспоминания об этом не поддающемся счету прошедшем. Убегая по-английски, она прошла рядом со мной, и я ей поклонился. Она меня узнала, пожала руку и приковала ко мне круглые сиреневые зрачки, словно говоря: «Как долго мы не виделись! Мы поговорим об этом в следующий раз». Она с силой сжала мне руку, не помня уже в точности, не произошло ли между нами чего, вечером, когда она отвозила меня домой от герцогини де Германт, в экипаже. На всякий случай, она намекнула на то, чего не было, что было не так сложно, поскольку она придала ласковое выражение земляничному пирогу, и, ведь она была обязана уйти до окончания концерта, отчаянно изобразила тоску разлуки, — впрочем, не окончательной. Так как относительно приключения со мной полной уверенности у нее не было, ее тайное рукопожатие не замешкалось и она не сказала мне ни слова. Она разве задержала на мне, как я уже говорил, взгляд, обозначавший «Как давно!» — в котором читались ее мужья, те, что ее содержали, две войны, — и звездообразные ее очи, подобные астрономическим часам, высеченным в опале, последовательно отмечали все эти торжественные дни былого, столь далекого, что, как только она хотела сказать вам «здравствуйте», это всегда оказывалось «извините». Затем, оставив меня, она засеменила к дверям, чтобы кого-нибудь не обеспокоить, чтобы показать, что если она со мной и не поболтала, то только потому, что спешит, чтобы возместить минуту, ушедшую на рукопожатие, чтобы поспеть как раз вовремя к королеве Испании, с которой у нее чаепитие тет-а-тет, — когда она дошла до дверей, мне даже показалось, что сейчас она поскачет. Но на самом деле она спешила в могилу.
Крупная женщина поздоровалась со мной, и на протяжении этих секунд самые разные мысли вошли в мой ум. Мгновение я колебался, из боязни, что, узнавая людей не лучше, чем я, она меня с кем-то спутала, но затем ее уверенность заставила меня, — поскольку я боялся, что это особа мне очень близкая, — сделать улыбку любезной поелику возможно, покамест мои взгляды продолжали искать в ее чертах имя, что я никак не мог найти. Как соискатель степени бакалавра, уставившись в лицо экзаменатора, тщетно пытается найти там ответ, который следовало бы поискать в собственной памяти, так, все еще улыбаясь ей, я приковал взоры к чертам лица крупной дамы. Мне показалось, что это были черты г-жи Сван, и моя улыбка оттенилась почтительностью, тогда как нерешительность пошла на убыль. Секундой позже, я услышал, как большая женщина сказала: «Вы приняли меня за мать, действительно, я теперь стала очень на нее похожа». И я узнал Жильберту. Мы порядком поговорили о Робере, Жильберта вспоминала о нем с уважением, — как об исключительном человеке, которым, как она хотела показать мне, она восхищалась, которого понимала. Мы напомнили друг другу, как часто его идеи о военном искусстве (иногда он повторял ей в Тансонвиле те же постулаты, которые излагал мне в Донсьере и позднее), да и по другим вопросам, подтвердились в последней войне.
«Просто удивительно, насколько самые простые его замечания, донсьерской еще поры, поражали меня во время войны, да и занимают теперь. Последние его слова, когда мы расставались, как выяснилось — навсегда, были о том, что он ожидает от Гинденбурга, как от генерала наполеоновского склада, проведения одной из наполеоновских баталий — разделения двух противников; может быть, добавил он, нас с англичанами. Но не прошло и года после смерти Робера, как глубоко почитаемый им критик, который, вероятно, серьезно повлиял на его военные идеи, г-н Анри Биду, написал о наступлении Гинденбурга в марте 1918-го [189], что оно является «баталией разделения двух противников, состоящих в союзе, сосредоточенными силами неприятеля, — маневр, который удался у Императора в 1796-м на Апеннинах, но не вышел в 1815-м в Бельгии». А незадолго до того Робер сравнивал баталии с такими пьесами, где не всегда легко узнать, чего же хотел автор, где автор сам по ходу написания меняет план. Впрочем, по поводу этого немецкого наступления в 1918-м, Робер, наверное, не согласился бы с таким толкованием г-на Биду. Другие критики полагают, что продвижение Гинденбурга в амьенском направлении, затем вынужденная остановка, продвижение во Фландрию, затем еще одна остановка, сделали Амьен, а затем и Булонь «случайными целями», заранее Гинденбургом не намечавшимися [190]. Но если каждый может переделать пьесу в своем вкусе, то есть и те, кому в этом наступлении видится начало молниеносного броска к Парижу, тогда как другим — беспорядочные мощные удары, чтобы разбить английскую армию. И даже если распоряжения, отданные командиром, не подходят под ту или иную концепцию, критики всегда могут повторить Муне-Сюлли, который сыграл Мизантропа [191] как пьесу печальную и драматическую, а на слова Коклена, мол Мольер, по свидетельству современников, давал ей комическую интерпретацию, ответил: «Ну, значит, Мольер заблуждался».»