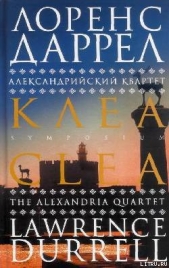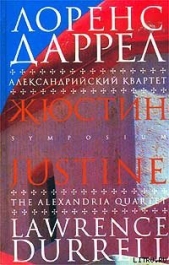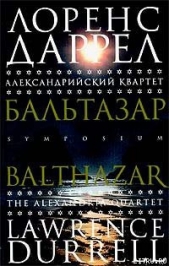Маунтолив
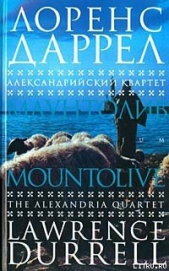
Маунтолив читать книгу онлайн
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррелла, Лоренс Даррелл (1912—1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Третий роман квартета, «Маунтолив» (1958) — это новый и вновь совершенно непредсказуемый взгляд на взаимоотношения уже знакомых персонажей. На этот раз — глазами Дэвида Маунтолива, высокопоставленного дипломата, который после многолетнего отсутствия возвращается в Александрию, к ее тайнам, страстям и интригам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Маунтолив долго глядел на него, широко открыв глаза. Он все пытался задавить в себе возникшее внезапно, как ему казалось, почти предательское чувство оптимизма.
«Более чем интересно, — сказал он наконец. — Признаюсь, мне это и в голову не приходило».
«Лично я вообще не стал бы впутывать в это дело египтян, — коварно продолжал Донкин. Он явно был из тех, кто подкладывал в школе кнопки учителю на стул. — Хотя, конечно, не мое дело рассуждать о подобных вещах. Мне кажется, у бригадира Маскелина есть самые разнообразные способы улаживать подобные недоразумения. На мой взгляд, было бы много надежней и проще оставить дипломатические каналы побоку и просто-напросто дать нужному человеку немного денег — и Хознани умрет. Это будет стоить не более сотни фунтов».
«Ну что же, большое вам спасибо, — негромко сказал Маунтолив; оптимизм его как-то сразу весь улетучился, уступив место темному водовороту полуосознанных чувств, о которых он, по наивности своей, и вовсе уж собрался позабыть, — Благодарю вас, Донкин». — (Донкин, подумал он злобно, как только начинает говорить о кинжалах и яде, становится ужасно похож на молодого Ленина. Легко убить человека чужими руками и по чужому приказу, будучи третьим секретарем.)
Оставшись один, он принялся вышагивать по зеленому ковру, балансируя на грани весьма противоречивых чувств. По левую руку стояла надежда, по правую — отчаяние. Что бы теперь ни случилось, изменить уже ничего нельзя. Ему и впрямь придется действовать, и результаты этих действий судить согласно обычным человеческим меркам бессмысленно. Кто-нибудь из древних наверняка уже разродился по данному поводу философской сентенцией. Лег он в ту ночь очень поздно, крутил на граммофоне любимые пластинки и пил много больше обычного. Время от времени он садился за письменный, в георгианском стиле стол и заносил над чистым листом бумаги — с гербом, как положено, — ручку.
Дорогая моя Лейла. В настоящий момент мне более чем необходимо повидать тебя; я просто вынужден просить тебя преодолеть твое…
Но ничего не вышло. Он комкал письмо за письмом и с досадой швырял их в корзину. Преодолеть твое что? Неужто он и впрямь… и Лейлу тоже? Где-то на самых дальних горизонтах тихо трепыхалась даже не мысль, почти уверенность в том, что именно она, а не Нессим, стояла у истоков этой чудовищной авантюры. Первотолчок, так сказать. А не поведать ли об этом Нуру? И собственному правительству — не сообщить ли тоже? И не резонно ли предположить, что Наруз — он ведь в семье человек действия, не так ли? — гораздо в большей степени причастен к заговору, чем Нессим? Он вздохнул. Какая им-то, любому из них, будет выгода в случае успеха еврейских повстанцев? Маунтолив слишком верил, не мог не верить в мистический образ Англии, чтобы допустить даже мысль о человеке, способном разувериться в ней как в определяющем и незыблемом факторе безопасности и стабильности.
Нет-нет, это чистой воды безумие; типичный случай, когда погоня за сверхприбылями начисто отшибает способность оценить ситуацию здраво. Как это похоже на Египет! Он прививал не торопясь к этой мысли свою досаду и презрение, как перемешивают в горчичнице горчицу и уксус. Как это похоже на Египет! Н-да, странно, однако на Нессима это не похоже вовсе.
Сон все не шел. Он накинул легкий плащ — было не холодно, плащ, однако, скрадывал очертания фигуры — и вышел прогуляться далеко и надолго, чтоб успокоить бестолковое мельтешение мыслей; оказавшись на улице, он поймал себя на совершенно идиотском чувстве сожаления, что нет с ним рядом этого самого щенка, который шел бы следом и занимал его, отвлекал. Вышел он через калитку для слуг, а потому на обратном пути, около двух часов ночи, чрезвычайно поразил стоявших у парадного на посту блистательного кавасса и двух полицейских — в такое время, господин посол, и на своих двоих, что вовсе уже для господина посла непозволительно. Он пожелал им церемонно, по-арабски, доброй ночи и отпер дверь своим ключом. Снял плащ и медленно, чуть припадая на ногу, прошел сквозь освещенный холл, сопровождаемый призраком щенка, который позади него оставлял повсюду на паркете призрачные же мокрые отпечатки лап…
Поднимаясь к себе в апартаменты, он наткнулся на лестничной площадке на завершенный теперь уже портрет работы Клеа, одиноко стоявший у стенки. Он выругался шепотом: надо же, опять забыл — вот уже шесть недель, как он собирался отправить его маме. Надо будет непременно завтра же озаботить этим отдел доставки. У них могут возникнуть сложности, размер все-таки, мягко говоря, нестандартный, ну да и черт с ними; в крайнем случае придется на них нажать — дешевле встанет, чем выписывать экспортную лицензию на так называемое произведение искусства. (Уж в данном-то случае это было бы явным преувеличением.) Но с тех пор как один немецкий археолог вывез чуть не целый вагон египетских статуэток и распродал их по всем европейским музеям, правительство вдруг озаботилось вывозом из страны предметов художественного творчества. Наверняка начнутся всякие задержки, проволочки, покуда они не решат, можно вывезти сей шедевр или нельзя. Нет уж, пусть лучше портретом займется отдел доставки; и маме будет радость. Исполнившись сентиментальных чувств, он представил, как она сидит у камина, читает — в рамке заснеженного зимнего пейзажа. Он должен ей письмо, и длинное. Но не сейчас. «Когда все кончится», — сказал он и невольно передернул плечами.
Он лег в постель и скользнул тут же в узкий лабиринт снов, без глубины, без отдыха, и бродил в нем, спотыкаясь, до самого утра — греза о бесконечном плетении проток и заводей, о бесчисленных рыбьих стаях и тучах водоплавающих птиц, среди которых скользили в лодке два юных тела, он сам и Лейла, радуясь тихому ритму всплесков весел в воде и далекому рокоту тамтама над фиолетовым ночным пейзажем; где-то рядом, позади, на грани сна и ночи, шла другая лодка, черный силуэт, и в ней две фигуры — два брата, у обоих в руках длинноствольные ружья. Та лодка их скоро догонит, но, согревшись в теплых объятиях Лейлы, как Антоний при Акциуме, он почти не чувствует страха. Они не разговаривают, по крайней мере голосов он не слышит. Он слышит только токи — от тела своего к телу женщины и обратно, словно ходит туда-сюда кровь. Они, помимо речи, мысли мимо, — усохшие во много раз фигурки незабытого прошлого, которого не жаль, которое дорого бесконечно, потому что не вернуть его никогда. Он спал и знал во сне, что спит, а когда проснулся, ощутил с удивлением и мукой на подушке слезы. Принимая положенный завтрак, он вдруг заподозрил, что у него температура, но термометр отказался подтвердить его опасения. Он с неохотой встал и сошел при полном параде вниз буквально в последнюю минуту — Донкин с пачкой документов под мышкой нервически мерил шагами холл.
«Ну, — сказал Маунтолив, означивая жестом коннотации костюма, — вот я и готов».
В черном лимузине с трепещущим флажком на капоте они бесшумно пронеслись сквозь Город к министерству, где ждал их застенчивый обезьяноподобный египтянин, полный каких-то своих забот и тревог. Парадный посольский мундир явно произвел на него неизгладимое впечатление, как и тот неоспоримый факт, что его почтили визитом два лучших арабиста британской миссии. Он сиял и раскланивался и автоматически с привычной ловкостью сделал первый шаг в обмене формальными знаками внимания. Он был печальный маленький человек с запонками из белой жести и спутанными курчавыми волосами. Его желание польстить, доставить гостям удовольствие, устроить их поудобнее было столь велико, что он моментально перешел на интонации совершенно дружеские, едва ли не слащаво-приторные. Традиционный кофе по-турецки и сласти он подал так, словно это было признание в любви. Он беспрестанно промокал лоб и все улыбался, улыбался, дружелюбный этакий австралопитек.
«Ах, господин посол, — сказал он сахарным совершенно голосом, когда от комплиментов настало время переходить к делу — Вы превосходно знаете нашу страну и наш язык. Мы верим вам». — Что в переводе означало: «Вы прекрасно знаете, что мы продажны и что поделать с этим ничего нельзя, это часть древней здешней культуры, а потому ваше присутствие нисколько нас не стеснит».