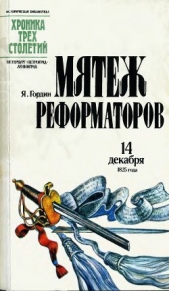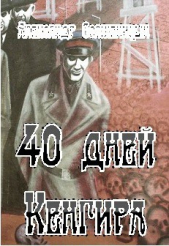7том. Восстание ангелов. Маленький Пьер. Жизнь в цвету. Новеллы. Рабле

7том. Восстание ангелов. Маленький Пьер. Жизнь в цвету. Новеллы. Рабле читать книгу онлайн
В седьмой том собрания сочинений вошли: роман Восстание ангелов (La R?volte des anges, 1914), автобиографические циклы Маленький Пьер (Le Petit Pierre, 1918) и Жизнь в цвету (La Vie en fleur, 1922), новеллы разных лет и произведение, основанное на цикле лекций Рабле (1909).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XII. Две сестры
В тот год мама часто водила меня на улицу Бак. Приближалась зима. Она покупала на этой торговой улице разные вязаные и шерстяные материи и заказывала мне теплое платье у г-на Огри, необыкновенно вежливого и необыкновенно неаккуратного портного, жившего напротив особняка, где за год до того умер Шатобриан. Это воспоминание нисколько меня не трогало, и я равнодушно смотрел на дверь с медальонами благородного и строгого стиля, которая однажды раскрылась, чтобы пропустить его в последний раз. Что восхищало меня на прекрасной улице Бак, так это лавки, полные разных вещей, изумительных по форме и окраске, — множество вышивок, почтовая бумага с вензелями, нарисованными золотом и лазурью, львы и пантеры на ковриках, предназначенных лежать на полу у кровати, восковые фигурки с искусными прическами, савойские фарфоровые безделушки, шершавые на ощупь, с куполом, похожим на купол Пантеона и завершавшимся распустившейся розой. Там были, наконец, изумительные крошечные пирожные в виде треуголок, домино или мандолины. И, показывая мне все эти чудеса, матушка умела одним метким словом сделать их для меня еще чудеснее. У нее был редкий дар одушевлять вещи и создавать символы.
На углу улицы Бак и Университетской улицы существовал тогда магазин, где торговали картинами. Узкая желтая дверь его была богато разукрашена в стиле того времени. Не могу ничего сказать о венчавшем ее карнизе, так как совершенно не запомнил его, но зато отлично помню, что возле двух консолей, поддерживавших карниз, стояли, прислонясь к ним, две маленькие фигурки, не больше локтя в высоту, причудливая смесь человека, четвероногого и птицы. Строго говоря, это были не химеры, поскольку у них не было ничего ни от льва, ни от козы. Не были это и грифоны, раз у них была женская грудь. Головы с длинными ушами напоминали головы летучей мыши; тонкие туловища напоминали борзых. На фонарных столбах Сюренского моста еще и сейчас можно видеть фантастических маленьких зверьков, немного похожих на эти, а также на того уродца, который поддерживает фонарь на фасаде палаццо Риккарди во Флоренции. Словом, это были маленькие декоративные фигурки, созданные около 1840 года каким-нибудь скульптором вроде Фешера, но выражение их мордочек было так своеобразно и они занимали так много места в моей жизни, что я не спутаю их ни с какой другой фигуркой подобного рода.
Это моя дорогая матушка указала мне на них как-то раз, когда мы проходили мимо.
— Пьер, — сказала она, — посмотри на этих маленьких зверюшек. Они очень выразительны. Какие хитрые и веселые мордочки! На них можно смотреть целыми часами — до того у них осмысленный взгляд. Так и кажется, что они живые. Взгляни, как они смеются.
Я спросил, как они называются. Матушка ответила мне, что у них нет названия в естественной истории, потому что в природе таких не существует.
Я сказал:
— Это две сестры.
На следующий день нам опять пришлось идти к г-ну Огри, чтобы примерить еще раз мой зимний костюм. Когда мы проходили мимо двух сестер, матушка с серьезным видом показала на них пальцем,
— Посмотри, они больше не смеются.
И матушка говорила правду. У сестер изменилось выражение, они больше не смеялись и смотрели на меня угрожающе и сурово.
Я спросил, почему они перестали смеяться.
— Потому что ты дурно вел себя сегодня.
На этот счет не могло быть никаких сомнений. Я дурно вел себя в тот день. Я пришел на кухню, куда всегда влекло меня сердце, и застал там старую Мелани, которая чистила брюкву. Мне тоже захотелось чистить, или, вернее, резать брюкву, ибо я задумал сделать из нее фигурки людей и животных. Мелани воспротивилась моей затее. Рассерженный отказом, я сорвал с нее гофрированный чепец с кружевными лентами. Возможно, что это была вспышка моего необузданного нрава, но уж никак не акт благоразумия. Я внимательно всматривался в двух сестер, и оттого ли, что они показались мне действительно наделенными сверхъестественной силой, или потому, что мой ум, жадно тянувшийся ко всему чудесному, охотно поддавался иллюзии, но легкая мучительно-сладостная дрожь испуга пробежала у меня по спине.
— Они не знают, в чем ты провинился, — продолжала матушка, — но ты читаешь свои проступки в их глазах. Будь хорошим мальчиком, и они улыбнутся тебе, как будет улыбаться вся природа.
С тех пор, всякий раз, что мы с матушкой проходили мимо двух сестер, мы с беспокойством смотрели, какой у них вид — сердитый или безмятежный, и этот вид всегда в точности соответствовал состоянию моей совести. Я вопрошал их с полным доверием, и в выражении их лиц, то улыбающихся, то мрачных, находил либо награду за хорошее поведение, либо кару за проступки.
Прошло много лет. Став взрослым и приобретя полную независимость суждений, я все еще вопрошал двух сестер в минуты нерешительности и тревоги. И вот однажды, чувствуя особенно острую потребность разобраться в самом себе, я пошел к ним за ответом. Но их уже не было: они исчезли вместе с дверью, которую некогда украшали. Я вернулся домой, полный неуверенности и колебаний, — и принял неправильное решение.
XIII. Кэтрин и Марианна
Море, когда я увидел его впервые, показалось мне необъятным из-за той безграничной грусти, которую я испытал, глядя на него и дыша им. Это было дикое море. Мы поехали летом провести месяц в маленькой бретонской деревушке. Один прибрежный пейзаж запечатлелся в моей памяти с четкостью гравюры — низко нависшее пасмурное небо, ряд деревьев, безжалостно бичуемых ветром с моря и склоняющих к плоской голой земле свои жалкие ветки и кривые стволы. Это зрелище растерзало мне сердце. Оно до сих пор живет во мне, как символ ни с чем не сравнимого бедствия.
Морские шумы, морские запахи волновали меня. Каждый день, каждый час я видел море другим. То оно было гладким и синим, то, покрывалось маленькими спокойными волнами, лазурными с одной стороны, посеребренными — с другой, то казалось закрытым зеленой клеенкой, то тяжелым и мрачным, несущим на своих волнующихся гребнях разъяренных баранов Нерея; [193] вчера оно отступало с улыбкой, сегодня — в смятении бежало вперед. Несмотря на то, что я был ребенком, а может быть, именно потому, что я был всего лишь слабым ребенком, эта коварная изменчивость сильно подорвала любовь и доверие, которые мне внушала природа. Морская фауна — рыбы, моллюски и особенно ракообразные, эти животные, внушавшие мне больший страх, чем чудовища из «Искушений св. Антония» [194], которых я с любопытством разглядывал в окне лавочки г-жи Летор на моей милой набережной Малакэ, — все эти лангусты, осьминоги, морские звезды и крабы знакомили меня со слишком уж необычными формами жизни и с живыми существами, которые, право же, были куда менее дружелюбны, чем мой щенок Кэр, чем пони г-жи Комон, чем ослы Робинзона, чем парижские воробьи, чем даже лев из моей «Библии с картинками» и пары из моего Ноева ковчега. Эти морские чудища преследовали меня во сне и являлись по ночам огромные, в черно-голубых панцирях, колючие, волосатые, вооруженные клешнями, жалами, пилами и не имеющие лица, причем отсутствие лица и было страшнее всего остального.
На следующий же день после моего приезда я был завербован одним большим мальчиком в детскую команду, которая, запасшись лопатами и кирками, соорудила на берегу крепость из песка, водрузила на ней французский флаг и стала защищать ее от морского прибоя. Мы потерпели славное поражение. Я покинул разрушенный форт одним из последних, выполнив свой долг, но приняв поражение с легкостью, не изобличавшей во мне великого полководца.
Однажды я ездил на лодке ловить моллюсков с Жаном Эло, у которого были светло-голубые глаза, смуглое обветренное лицо и до того жесткие руки, что они царапали мне кожу, когда он пожимал мои в знак расположения. Он выезжал в открытое море, чинил сети, конопатил лодку, а в часы досуга сооружал в графине крошечную шхуну с полной оснасткой. Говорил он мало, но все же рассказал мне историю своей жизни, которая сводилась к тому, что все его близкие погибли в море. Прошлой зимой три его брата и отец утонули все вместе на расстоянии одного кабельтова от порта, и в этом событии, как в любом другом, он видел только хорошее. Та малая доля религиозности, которая во мне была, помогла мне открыть в Жане Эло небесную мудрость. В один воскресный вечер мы нашли его посреди дороги мертвецки пьяным. Нам пришлось перешагнуть через него, но и после этого случая он остался для меня существом совершенным. Возможно, что в моем чувстве было что-то от квиетизма [195]. Пусть об этом судят другие — я в то время отнюдь не был богословом, а сейчас и подавно.