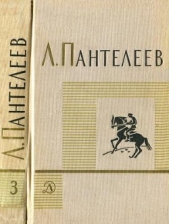Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы

Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы читать книгу онлайн
В двадцать второй том третьей серии вошли рассказы( "Мака Чудра", "Старуха Изергиль", "Челкаш", "Бывшие люди", из цикла "Сказки об Италии" и др.), воспоминания( Чехов, Л.Толстой, Ленин) и пьесы( "Ha дне", "Егор Булычов и другие") Максима Горького.Составление и вступительная статья А. Овчаренко.
Комментарии Н. Жегалова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— У меня тоже была жена…
— Это со всяким может случиться, — заметил Кувалда. — Ври дальше…
— Была худая, но ела много… И даже от этого померла…
— Ты отравил ее, кривой, — убежденно сказал Объедок.
— Нет, ей-богу! Она севрюги объелась, — рассказывал Полтора Тараса.
— А я тебе говорю — ты ее отравил! — решительно утверждал Объедок.
С ним часто это бывало: сказав какую-нибудь нелепость, он начинал повторять ее, не приводя никаких оснований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то капризно-детским тоном, постепенно доходил почти до бешенства.
Дьякон вступился за друга.
— Нет, он отравить не мог… не было причины…
— А я говорю — отравил! — взвизгнул Объедок.
— Молчать! — грозно крикнул ротмистр. Скука у него перерождалась в тоскливое озлобление. Он свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя в их рожах, уже полупьяных, ничего, что могло бы дать дальнейшую пищу его озлоблению, — опустил голову на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми зубами, так что рассол из огурца брызгал во все стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось, но этот процесс развлекал его. Мартьянов сидел неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которой уселся на землю, и так же сосредоточенно и мрачно смотрел на полуведерную бутыль водки, уже наполовину пустую. Тяпа́ смотрел в землю и жевал мясо, не поддававшееся его старым зубам. Объедок лежал на животе и кашлял, съежив все свое маленькое тело. Остальные — всё молчаливые и темные фигуры — сидели и лежали в разнообразных позах, лохмотья делали их похожими на безобразных животных, созданных силой, грубой и фантастической, для насмешки над человеком.
вполголоса напевал дьякон, обнимая Алексея Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикал.
Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали звезды, на горе в городе — огни фонарей. Заунывные свистки пароходов неслись с реки, с визгом и дребезгом стекол отворялась дверь харчевни Вавилова. На двор вошли две темные фигуры, приблизились к группе людей около бутылки, и одна из них хрипло спросила;
— Пьете?
А другая вполголоса, с завистью и радостью, произнесла:
— Ишь какие черти!
Затем через голову дьякона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное бульканье водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко крякнули…
— Ну, и тоска же! — воскликнул дьякон. — Кривой! давай вспомним старину, споем «На реках вивилонских»!
— Он разве умеет? — спросил Симцов.
— Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом был… Ну, Кривой… На-а-ре-е-е-ка-а…
Голос у дьякона был дикий, хриплый, прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом.
Объятый тьмою выморочный дом, казалось, увеличился в объеме или подвинулся всей массой полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем глухое эхо своим диким воем. Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из бывших людей храпел, остальные, все еще недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же разговаривали вполголоса с длинными паузами. Всем было непривычно это подавленное настроение на пире, редком по обилию водки и яств. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживление, свойственное обитателям ночлежки за бутылкой.
— Вы, собаки! Погодите выть… — сказал ротмистр певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь. — Кто-то едет… на пролетке…
Пролетка на Въезжей улице, и в эту пору, не могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог рискнуть поехать по рытвинам и ухабам улицы, кто и зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи ясно разносилось шуршание колес, задевавших за крылья пролетки. Оно все приближалось. Раздался чей-то голос, грубо спрашивавший:
— Ну, где же?
Кто-то ответил:
— А вон к тому дому, должно быть.
— Дальше не поеду…
— Это к нам! — воскликнул ротмистр.
— Полиция! — прозвучал тревожный шепот.
— На пролетке-то! Дурак! — глухо сказал Мартьянов.
Кувалда встал и пошел к воротам.
Объедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.
— Это ночлежный дом? — спрашивал кто-то дребезжащим голосом.
— Да, — прогудел недовольный бас ротмистра.
— Здесь жил репортер Титов?
— Это вы его привезли?
— Да…
— Пьяный?
— Болен!
— Значит, сильно пьяный. Эй, учитель! Ну-ка, вставай!
— Подождите! Я помогу вам… он сильно болен. Он двое суток лежал у меня. Берите под мышки… Был доктор. Очень скверно…
Тяпа́ встал и медленно пошел к воротам, а Объедок усмехнулся и выпил.
— Зажгите-ка огонь там! — крикнул ротмистр.
Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу. Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широкая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то маленьким человеком ввели по ней учителя в ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле и руки висели в воздухе, как изломанные. При помощи Тяпы́ его свалили на нары, и он, вздрогнув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них.
— Мы с ним в одной газете работали… Очень несчастный. Я говорю: «Пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стесняете…» Но он молит меня: «Отправьте домой!» Волнуется… я подумал, что ему вредно, и вот привез его… Ведь это именно здесь… да?
— А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом? — грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая своего друга. — Тяпа́, ступай принеси холодной воды!
— Так вот… — смущенно помялся человечек. — Я полагаю… я не нужен ему?
— Вы? — Ротмистр критически посмотрел на него.
Человечек был одет в пиджак, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости, смятая, как и его худое, голодное лицо.
— Нет, вы не нужны, здесь таких, как вы, много… — сказал ротмистр, отворачиваясь от человечка.
— Значит, до свидания! — Человечек пошел к двери и оттуда тихо попросил: — Ежели что случится… вы известите в редакцию… Моя фамилия — Рыжов. Я написал бы маленький некролог, ведь все-таки он был, знаете, деятель прессы…
— Гм, некролог, говорите? Двадцать строк — сорок копеек? Я лучше сделаю: когда он умрет, я отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя. Это для вас выгоднее, чем некролог, дня на три хватит… у него ноги толстые… Ели же вы его все там живого…
Человечек как-то странно фыркнул и исчез. Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, грудь и позвал его:
— Филипп!
Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и замер.
— Это, брат, нелепо! — сказал ротмистр, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижного учителя. Потом ротмистр прислушался к его дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо, осунувшееся и землистое, вздохнул и, строго нахмурив брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная: огонь в ней дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их безмолвную игру, разглаживая себе бороду.
Пришел Тяпа́ с ведром воды, поставил его на нары рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на своей руке, как бы взвешивая.
— Не надо воды, — махнул рукой ротмистр.
— Попа надо, — уверенно сказал старый тряпичник.
— Ничего не надо, — решил ротмистр.
Они помолчали, глядя на учителя.
— Пойдем выпьем, старый черт!
— А он?
— Ты ему поможешь?
Тяпа́ повернулся к учителю спиной, и они вышли на двор.
— Что там? — спросил Объедок, обращая к ротмистру свою острую морду.
— Ничего особенного. Умирает человек… — кратко сообщил ротмистр.
— Избили его? — поинтересовался Объедок.