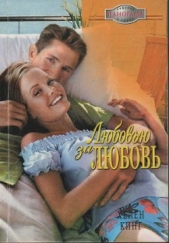Колодец одиночества
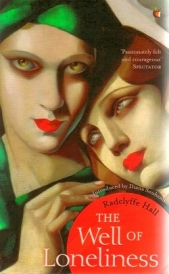
Колодец одиночества читать книгу онлайн
Мы все большие дураки перед природой. Мы придумываем свои правила и зовем их la nature; мы говорим — она делает то, она делает это. Дураки! Она делает то, что хочет, а нам она делает длинный нос.
(Рэдклифф Холл. Колодец одиночества)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бессознательно Стивен играла ему на руку, хотя и не испытывала иллюзий на его счет. Он представлял собой желанное развлечение, которое помогало держать ее мысли подальше от Англии. И, поскольку под умелым руководством Брокетта в ней развилась нежность к этому прекрасному городу, иногда она чувствовала к Брокетту терпимость, почти благодарность, и благодарность к Парижу. И Паддл тоже была благодарна.
Потрясение от внезапного полного разрыва с Мортоном сказалось на преданной маленькой женщине в сером. Она вряд ли могла бы утешить Стивен, если бы девушка пришла к ней за утешением. Иногда она лежала без сна ночами, думая об ее стареющей и несчастной матери в огромном безмолвном доме, и к ней приходила жалость, давняя жалость, которая приходила когда-то к Анне — она жалела Стивен с тех пор, как помнила ее. Потом Паддл пыталась мыслить спокойно, сохранять в сердце храбрость, которая никогда ее не подводила, хранить крепкую веру в будущее Стивен… но теперь бывали дни, когда она чувствовала себя почти старой, когда она понимала, что действительно стареет. Когда Анна писала ей спокойное, дружеское письмо, но ни разу не упоминала о Стивен, она испытывала страх, да, страх перед этой женщиной, и иногда почти страх перед Стивен. Ведь никто не мог узнать из этих сдержанных писем, какие чувства были в сердцах тех, кто их писал; и никто не мог узнать по напряженному лицу Стивен, когда она узнавала почерк в письмах к Паддл, что было у нее на душе. Она отворачивалась, не спрашивая о Мортоне.
О да, Паддл чувствовала себя старой и действительно испуганной, и оба эти чувства она глубоко отвергала; будучи такой, какова она была — неукротимым бойцом — Паддл поднимала голову и заказывала тоник. Она пробиралась по лабиринтам Парижа рядом с неутомимыми Стивен и Брокеттом; через Люксембургскую галерею и Лувр; на Эйфелеву башню — слава небесам, на лифте; вниз, по улице Мира, вверх, на Монмартр — иногда на машине, но довольно часто и пешком, потому что Брокетт хотел, чтобы Стивен как следует изучила свой Париж — и нередко все это заканчивалось обильной пищей, которая никак не шла на пользу уставшей Паддл. В ресторанах люди глазели на Стивен и, хотя девушка притворялась, что не замечает, Паддл знала, что, несмотря на свое спокойствие, в душе Стивен возмущена, сконфужена и чувствует себя неловко. И Паддл — ведь она была уставшей — тоже чувствовала неловкость, когда замечала эти взгляды.
Иногда Паддл действительно сдавалась и отдыхала, несмотря на решительно поднятый подбородок и тоник. Когда она оставалась совсем одна в парижском отеле, то вдруг начинала тосковать по Англии — конечно, это было нелепо, и все же это было так: ее тянуло в Англию. В такие минуты ей не хватало каких-то смешных мелочей — булочек за пенни в доверском поезде; добрых румяных лиц английских носильщиков, пожилых, с маленькими щетинистыми баками; настоящих мягких кресел; яичницы с беконом; морского побережья в Брайтоне. Сидя в одиночестве, Паддл тосковала по всем этим смешным мелочам, они манили ее в Англию.
Однажды вечером ее усталый ум унесся далеко, к самым первым дням ее дружбы со Стивен. Казалось, это было целую жизнь назад — когда худенькая девочка четырнадцати лет, похожая на жеребенка, начинала формироваться в классной комнате Мортона. Она слышала свои слова: «Вы кое о чем забыли, Стивен; и, поскольку учебники не способны ходить, а вы на это способны, мне кажется, что вам следует их принести»; и еще: «Даже мой мозг не выдержит вашего полного недостатка методичности». Стивен было четырнадцать лет… это было двенадцать лет назад. За эти годы она, Паддл, очень устала, устала от поисков выхода, побега, счастья для Стивен. Казалось, они вдвоем вечно пробирались по бесконечной дороге без единого поворота; она, стареющая женщина, сама не познавшая полноты счастья; Стивен, еще молодая и пока еще смелая — но придет день, когда юность покинет ее, и смелость вместе с ней, из-за этого бесконечного трудного пути.
Она думала о Брокетте, Джонатане Брокетте, без сомнения, недостойном компаньоне для Стивен; он был весьма порочным и циничным, опасным, потому что был блестящим. Но она, Паддл, действительно была благодарна этому человеку; они были в таком бедственном положении, что она была благодарна Брокетту. Потом пришло воспоминание о другом мужчине, Мартине Холлэме… она питала такие надежды! Он был очень простым, честным и хорошим — Паддл чувствовала, что он был хорошим. Но для таких, как Стивен, такие мужчины, как Мартин Холлэм, существуют редко; они не могут быть ей друзьями, а она не может быть им любовницей. Тогда что остается? Джонатан Брокетт? Подобное к подобному? Нет, нет, нестерпимое чувство! Такая мысль была оскорблением для Стивен. Стивен была исполнена чести и храбрости; она была верной в дружбе и бескорыстной в любви; невыносимо думать, что ее единственными компаньонами будут мужчины и женщины, похожие на Джонатана Брокетта — и все же, в конце концов, что остается еще? Что? Одиночество, или еще хуже, куда хуже, глубокое унижение для души — жизнь среди вечных ухищрений, необходимость сдерживать свои слова, сдерживать поступки, лгать с помощью умолчаний, если не слов, быть в союзниках у мировой несправедливости, всегда поддерживать несправедливое молчание, чтобы приобретать и сохранять друзей, которых ты уважаешь, не имея на эту дружбу никакого права — ведь если они узнают, то они отвернутся, даже те друзья, которых ты уважаешь.
Паддл резко оборвала поток своих мыслей; все это не поможет Стивен. Пока что на сегодня хватает плохого. Она встала и пошла в свою спальню, умылась и пригладила волосы.
«Я уже на человека не похожа», — уныло подумала она, глядя на свое отражение в зеркале; и действительно, в эту минуту она выглядела старше на много лет.
До самой середины июля Брокетт не приводил Стивен к Валери Сеймур. Валери пока что была в отъезде, и даже теперь остановилась в Париже лишь проездом, по пути к своей вилле в Сан-Тропе.
Когда они подъехали к ее квартире на набережной Вольтера, Брокетт начал превозносить хозяйку дома, восхваляя ее остроумие и литературный талант. Она писала тонкие сатиры и очаровательные сцены греческих moeurs [27]. Последние были весьма откровенными, но и вся жизнь Валерии была весьма откровенной — она была, по словам Брокетта, кем-то вроде первопроходца, из тех, кто способен войти в историю. Большинство ее сочинений были написаны на французском, ведь, помимо прочего, Валери равным образом владела обоими языками; к тому же она была богата — американский дядюшка прозорливо оставил ей состояние; она была достаточно молода, чуть за тридцать, и, по словам Брокетта, красива. Она проводила свою жизнь в душевном спокойствии, потому что ее ничто не тревожило и мало что раздражало. Она была твердо убеждена, что в этот безобразный век следует изо всех сил стремиться к красоте. Но ее поведение Стивен может найти несколько вольным, она была libre penseuse [28], когда доходило до сердечных дел; ее романы могли бы наполнить три тома даже после проверки цензурой. Ее любили великие люди, о ней писали великие писатели, один из них, как говорили, даже умер, потому что она отказала ему, но Валери не привлекали мужчины — и все же, как Стивен увидит, если придет к ней на прием, у нее множество преданных друзей среди мужчин. В этом отношении она была почти уникальной, будучи тем, кем она была, потому что мужчины не отвергали ее. Но, конечно же, все интеллигентные люди понимали, что она особое существо, как поймет и Стивен, когда только ее встретит.
Брокетт продолжал болтать, и в его голосе появились те женственные нотки, которые Стивен всегда ненавидела и боялась:
— Ах, моя дорогая! — воскликнул он с высоким смешком. — Я так волнуюсь перед вашей встречей, чувствую, она может стать исторической. Что за радость! — и его мягкие белые руки не могли задержаться на месте, производя эти дурацкие жесты.