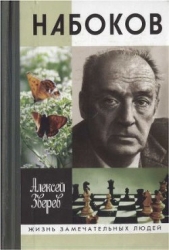Ада, или Эротиада
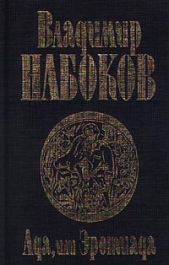
Ада, или Эротиада читать книгу онлайн
Роман «Ада, или Эротиада» открывает перед российским читателем новую страницу творчества великого писателя XX века Владимира Набокова, чьи произведения неизменно становились всемирными сенсациями и всемирными шедеврами. Эта книга никого не оставит равнодушным. Она способна вызвать негодование. Ужас. Восторг. Преклонение. Однако очевидно одно — не вызвать у читателя сильного эмоционального отклика и духовного потрясения «Ада, или Эротиада» не может.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скатерть и мерцавшие свечи привлекали как робких, так и стремительных ночных бабочек, среди которых Ада, словно дух какой ее наущал, не могла не признать своих старых «крылатых подружек». В гостиную из темноты жаркой влажной ночи то и дело вплывали или влетали, тихонько или с шумом, то бледные самозванки, чтоб лишь распластаться нежными крылышками по какой-нибудь блестящей поверхности, то насекомые в припущенных мантиях, с лета врезавшиеся в потолок, то наскакивавшие на сидящих за столом бражники с красными, при черной опоясочке, брюшками.
Так не забудем же, запомним навечно: тогда, в середине июля 1886 года, в Ардисе, графство Ладора, стояла темная, жаркая, влажная ночь и за овальным обеденным столом сидело семейство из четырех человек; стол убран цветами и горит хрусталем — и это не сцена из спектакля, как могло бы — скорее, должно было бы, — показаться тому, кто смотрит со стороны (с фотоаппаратом или программкой в руках), из бархатного сада-партера. Минуло шестнадцать лет после окончания трехлетнего романа Марины с Демоном. Различные по протяженности антракты — двухмесячный перерыв весной 1870 года — некогда лишь усиливали их чувства и душевные муки. Эти до невероятности погрубевшие черты, этот наряд, платье с блестками и сеточка, поблескивающая на крашеных, розовато-блондинистых волосах, эта покрытая багровым загаром грудь и театральный грим с избытком охры и бордо — ничто даже отдаленно не напоминало тому, кто некогда любил ее страстно, как ни одну другую в своих донжуанских похождениях, ту очаровательную, порывистую, романтичную красавицу Марину Дурманову. Демон был удручен — полным крахом прошлого, развеиванием его странствующих дворов и бродячих музыкантов, фатальной невозможностью связать это смутное настоящее с неоспоримой реальностью воспоминаний. Даже закуски эти, выставленные на закусочный стол Ардисского поместья, и эта цветистая гостиная никак не вязались с их прежними petits soupers [255], хотя, Бог свидетель, неизменно трапезу зачинала та же заглавная троица — молодые соленые грибки с блестящими, туго посаженными, желтовато-коричневыми шляпками, в сероватых бусинках свежая икра и паштет из гусиной печенки, с четырех сторон тузами пик украшенный трюфелями.
Демон сунул в рот последний кусочек черного хлеба с нежной лососинкой, хватил последнюю стопку водки и занял свое место за столом, прямо напротив Марины, сидевшей на дальнем конце за громоздкой бронзовой чашей с точеной формы яблоками кальвиль и продолговатым виноградом Персты. Алкоголь, уж пропитавший его могучий организм, как всегда, способствовал распахиванию того, что Демон с пристрастием галлициста именовал «заколоченными дверьми» [256], и теперь, непроизвольно широко зевнув, что случается у многих мужчин при развертывании салфетки, Демон, рассматривая претенциозную, ciel-étoile [257], Маринину прическу, пытался постичь (в полном смысле этого слова), пытался овладеть реальностью факта, проталкивая его в свой чувственный центр: неужто она — та самая женщина, к которой он испытывал нестерпимую страсть, которая любила его истерично и своенравно, которая убеждала, что надо предаваться любви на ковре или на брошенной на пол подушке («так любят все порядочные люди между Тигром и Евфратом»), которая через две недели после родов способна была нестись стремительным бобслеем вниз по заснеженным склонам или заявиться Восточным Экспрессом с пятью чемоданами, с предком Дэка и горничной к д-ру Стелле Оспенко в ее ospedale [258], где Демон лечил царапину, нанесенную шпагой во время дуэли (след которой и по сей день белеет рубцом под восьмым позвонком, хоть минуло уже больше семнадцати лет). Как странно: когда после долгих лет разлуки встречаешь однокашника или толстуху тетку, обожаемую в младенчестве, тотчас охватывает неизбывное, теплое чувство человеческого родства, а в случае со старой возлюбленной ничего подобного не случается — как будто вместе с прахом нечеловеческой страсти начисто сметается единым порывом все человеческое из былого чувства. Демон, похваливая превосходный суп, смотрел на Марину: она, эта раздобревшая матрона, — без сомнения добродушная, хоть и суетливая и с виду малоприятная, нос, лоб и щеки которой поблескивают смуглым маслянистым покрытием, которое, по ее мнению, «молодит» больше, чем пудра, — была ему знакома меньше, чем Бутейан, кому пришлось однажды выносить ее, изобразившую обморок, из виллы в Ладоре прямо в кеб после окончательной, да-да, окончательной ссоры, накануне ее свадьбы.
Марина, по сути, манекен в человечьем обличье, подобных терзаний на испытывала, будучи совершенно лишена этого третьего видения (особого, полного чудных подробностей воображения), которое может быть свойственно также и многим людям, в других отношениях заурядным и несамостоятельным, но без которого память (даже память истинного «мыслителя» или гениального инженера) оказывается, будем откровенны, попросту трафаретом или вырванным листком. Мы не собираемся строго судить Марину; в конце концов ее кровь пульсирует у нас на запястьях и в висках, и многое из наших причуд у нас от нее, не от него. Все же нечувствительность ее души мы предать забвению не можем. Сидевший во главе стола мужчина, соединенный с нею жизнерадостной, юной парой, «юным героем» (на кинолексиконе) справа от нее, «инженю» слева, был все тот же Демон и в чуть ли не в том же черном смокинге (разве что теперь с гвоздикой, которую, вероятно, стащил из вазы, какую Бланш велено было принести из галереи), кто сидел с нею рядом на прошлое Рождество у Праслиных. Умопомрачительная пропасть, какую он при каждой встрече ощущал меж ними, это из разряда кошмарных «чудес света» нагромождение геологических разломов, невозможно было связать с прошлым тем мостиком, каким Марине виделся штрих-пунктир случайных и серых встреч: «бедняжка» Демон (подобным эпитетом награждались все, с кем она спала) возникал пред ней безобидным призраком — в театральном фойе «между зеркалом и веером», в гостиной у общих друзей, а как-то раз в Линкольн-парке, где указывал тростью на обезьяну с чернильной задницей и не удостоил Марину приветствием, забыв о правилах beau monde, так как был с девицей легкого поведения. И где-то в прошлом, в глубоком прошлом, остался — благополучно обращенный в пошлую мелодраму ее сознанием, испорченным кино, — трехлетний жизненный отрезок лихорадочно разбросанных любовных встреч с Демоном, — «Знойный роман» (название единственного удачного фильма с ее участием), пламя в палаццо, пальмы и лиственницы, его Самозабвенное Чувство, его несносный характер, разлуки, примирения, Голубые Экспрессы, слезы, измены, страх, угрозы безумной сестрицы, пусть жалкие, но оставлявшие следы тигриных когтей на покровах мечты, особенно если лихорадит во влажной ночи. И еще тенью на заднике маячило возмездие (и нелепые судебные инсинуации). Но все это были лишь декорации, которые ничего не стоит сложить, надписать «К чертям» и отправить с глаз долой; и лишь в редчайших случаях являлось напоминание — так, ни с того ни с сего возникнет крупным планом: две левые руки, мальчика и девочки, — что делают? — теперь Марине уж никак не вспомнить (а ведь всего четыре года прошло!) — играют à quatre mains [259]? — нет, ни тот, ни другая не учились играть на фортепиано, — пускают тенью зайчиков на стене? — ближе, теплее, но пока все не то; отмеряют что-то? Что же? Скользят по стволу вверх? Но где, когда это было? Как-нибудь, думает Марина, надо выстроить прошлое по порядку. Прокрутить, подретушировать. Надо сделать в картине необходимые «вставки», кое-что «подтереть»; подчистить кое-какие красноречивые царапины на эмульсии; одновременно разумно скорректировать «наплывы» по ходу действия, урезая ненужный, компрометирующий материал, должным образом подстраховаться; да, надо, надо, пока смерть финальным хлопком не оборвала съемку.