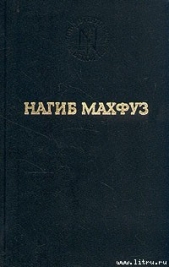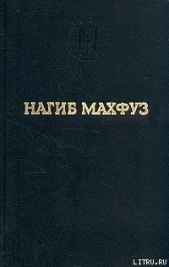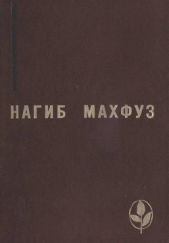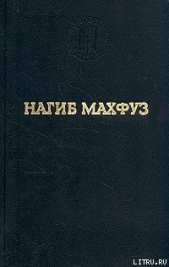Пастораль сорок третьего года

Пастораль сорок третьего года читать книгу онлайн
В книгу известного голландского писателя Симона Вестдейка вошел роман «Пастораль сорок третьего года».
Оптимизм, вера в конечную победу человека над злом и насилием — во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах, — несомненно, составляют наиболее ценное ядро во всем обширном и многообразном творчестве С. Вестдейка и вместе с выдающимся художественным мастерством ставят его в один ряд с лучшими представителями мирового искусства в XX веке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но хоть он и отказался от плана обольстить ее, мысли его развивались своим неисповедимым путем, и через четверть часа он поймал себя на том, что уже дважды заводил разговор на эротическую тему. Это объяснялось тем, что на сей раз Мийс Эвертсе была менее разговорчива, чем в первую встречу: не будь ситуация в целом такой пикантной, ему было бы скучно. Оказалось, что он очень быстро исчерпал все темы и не знал, о чем говорить. О своей семье он уже достаточно распространялся; все, что он мог рассказать о школе, отличалось антинемецкой направленностью; тема подполья была теперь неактуальна для нее и, кроме того, опасна для него. Черный рынок не годился — говорить о еде, когда нет возможности съесть приличный бифштекс, неприятно, а разговор о куреве она могла принять за скрытую просьбу еще раз угостить его сигаретой; военная тема могла завести его на опасный путь неосторожных комментариев. В личной жизни он не нашел ничего заслуживающего внимания. В какой-то момент он поймал себя на том, что ради занимательности разговора чуть было не сказал: «На этой неделе я, наверное, убью аптекаря Пурстампера, юфрау Эвертсе, запомните это громкое имя — Генри Пурстампер, или Пурстамнер Генри, как произнес Баллегоойен, приговаривая его к расстрелу. Да, Баллегоойен тоже будет участвовать, и он, и Эскенс, и Хаммер. Их клички вас вряд ли интересуют, но я их вам сообщу: Роозманс, Флип и Тоонтье. Самый маленький из троих — Флип». После этого ужасного наваждения, со всей очевидностью доказавшего образование вакуума в беседе, он вдруг стал разыгрывать из себя женоненавистника, врать о каких-то сомнительных приключениях. Он проявил хороший вкус, отнеся все эти приключения к студенческому периоду, к далекому прошлому. Внимание, с которым она слушала, доказывало, что отказываться от этой темы не следует; ему было приятно, что он нашел единственную не скучную и не опасную тему, которую подпольщик мог обсуждать с агентом гестапо: не исключено, что взять на вооружение эротику было его гражданским долгом. Ее руки с длинными красными ногтями лежали прямо перед ним на столике. Паталогическая пародия на домашний уют и взаимопонимание! Он смотрел на эти руки и чувствовал, что они тянулись к нему. К нему стремилось и ее лошадиное лицо. Ее большие круглые умные глаза, которые умели так многозначительно щуриться в нужный момент, всеми средствами старались подчинить его своей власти. Он же чувствовал себя свободным и довольным.
— Студентом я не терпел женщин, — рассказывал он. — В своей комнате я повесил портрет самой некрасивой из них, Безобразной герцогини Маргариты Каринтской и Тирольской, жившей в четырнадцатом веке. Эта комната служила мне и гостиной, и спальней, я учился на скромные средства. А вы учились?
— Нет, — ответила она с улыбкой, высоко вскинув брови, от чего ее глаза стали огромными.
— Я не стану описывать эту женщину, а то вы не сможете заснуть. Она до сих пор висит в моей комнате; если вы когда-нибудь зайдете ко мне — в гостиную, а не в спальню, — то вы увидите ее и ужаснетесь.
— Почему ужаснусь? Мне кажется, вы боитесь ее просто как олицетворение всех женщин.
— О нет, теперь я уже не тот. Я храню Безобразную герцогиню в память о своем прежнем моральном падении.
— Ну и ну, cheerio [50]! — весело воскликнула она, удивляя и настораживая Схюлтса этим английским словом. — Вы кокетничаете своим женоненавистничеством и Безобразной герцогиней. Наверное, все дело в вашем немецком происхождении…
— Почему?
— Я не очень хорошо знаю немцев, но слышала, что они никогда не вступают в связь с женщиной, не думая об уродах: отсюда и такое большое количество странных немецких сказок и большое количество форм типично немецкой душевной извращенности. Для вас главное — не Безобразная герцогиня, а женщина, которая сначала должна немного полюбоваться Безобразной герцогиней…
— Сначала?
— На закуску.
— Мне не совсем ясно, — спокойно сказал он, открыто поглядывая на часы. — Мне не ясно, кто служит закуской, герцогиня или та женщина. Но возможно, на месте это прояснится — предметное обучение с наглядными пособиями иногда творит чудеса.
— Я подумаю, — тихо произнесла она совершенно серьезным тоном.
Ее руки продолжали лежать перед ним, и он упрекал себя в садизме, недопустимом даже по отношению к агенту гестапо. Из-за этого приступа раскаяния он договорился с ней о встрече в следующий понедельник вечером. Прощаясь, она сказала «bay-bay» [51], что добило бы ее в его глазах, если бы в этом еще была необходимость. Этот детский лепет на любом языке действовал на него крайне болезненно и превращал в ничто даже самую обольстительную женщину.
В связи с тем что «Золотой лев» с понедельника превратился в зал отдыха для вермахта — не помогло жалкое состояние, в которое преднамеренно привел свое кафе Хаммер, — они собралрись у Баллегоойена. Когда Схюлтс спускался с Ван Дале в катакомбу — так он про себя называл убежище, — он думал о том, прав ли Ван Дале, что решил взять руководство операцией на себя и при этом крепко натянуть поводья. Вечер был тревожным: осенняя гроза надвигалась с запада, переливаясь всеми цветами радуги, кроме естественного цвета грозовых туч! светло-желтым, ярко-синим, розоватым; синий напоминал обычную синеву вечернего неба; очевидно, беспрерывная стрельба на фронтах повлияла и на окраску туч. Когда помощник Баллегоойена, который караулил в саду и должен был в случае опасности бросать цветочные горшки, ввел их в теплицу, первые капли тихо застучали по ее дощатой крыше; их звук напоминал шелест пальмовых листьев на ветру. Мрачно и угрюмо вырисовывалась труба теплицы на фоне необычно окрашенных туч; мрачно и угрюмо звучали над землей раскаты грома; мрачными и угрюмыми были лица Баллегоойена, Эскенса и даже Хаммера, сидевших на раскладушке; для Схюлтса и Ван Дале стояли стулья. Возможно, они были недовольны отсрочкой, подумал Схюлтс; скоро у них будут основания сердиться еще больше. На столике стоял горячий чайник, рядом электрическая лампа на перевернутом цветочном горшке, а в трех разных местах вазы со свежими георгинами, маргаритками и астрами, что, учитывая страшную дороговизну на цветы, могло считаться проявлением особого внимания. Катакомба, видимо, была раньше просто погребом; два отверстия, выходящих в сад, обеспечивали вентиляцию. Печка для обогрева теплицы находилась по другую сторону. Пахло плесенью. Поздоровавшись, Ван Дале закурил сигарету и сказал:
— Я не мог приехать раньше, чем сегодня. Баудевейн, наверное, говорил вам. Я не могу дать вам машину, если и в следующий раз все будет организовано так же плохо, как в субботу. Я не упрекаю вас, но операция проводилась по-дилетантски…
Наступило настороженное молчание. Когда Ван Дале бросил на пол спичку, Баллегоойен зло взглянул на него и кивком головы указал на пепельницу на столе. Схюлтс чувствовал, что таким тоном с этими людьми разговаривать нельзя; Ван Дале был слишком резок и не умел обходиться с людьми — на фабрике у него из-за этого часто возникали конфликты с подчиненными. Он был слишком строг и требовал военной дисциплины от всех подпольщиков. В той организации, членом которой был он лично и о которой он никогда не говорил — группа Маатхёйса была очень далеким ответвлением секретной службы и не входила в нее, — такая требовательность была уместна, но во вспомогательных организациях она не годилась.
Все молчали; тогда Схюлтс счел подходящим преподать Ван Дале урок обращения с людьми.
— Вы сидите с таким унылым видом, словно немцы взяли Ленинград, — начал он. — Арнольд не хотел сказать ничего плохого; кроме того, упрек относится и ко мне, не так ли? Но нам нечего ему возразить. Мы слишком поверили в нацистские принципы Пурстампера, а у него, видимо, вообще нет никаких принципов.
Баллегоойен поднял голову:
— Пусть тогда менеер… менеер скажет, что делать. У него машина.
— А стрелять нам, — вскипел Эскенс. — В конце концов, Пурстамперу подыхать от нашей пули, а не от его машины. Я с самого начала был против машины. Машина…