Детство. В людях. Мои университеты

Детство. В людях. Мои университеты читать книгу онлайн
Вступительная статья Даниила Гранина. Иллюстрации Б. Дехтерева.
Знаменитая автобиографическая трилогия Максима Горького — одно из сокровищ русской литературы. Три сюжетно связанные повести: «Детство», «В людях» и «Мои университеты » — рассказывают о трудностях начала самостоятельной жизни писателя, формировании его характера и мировоззрения. Многочисленные испытания, непрестанная борьба за существование, описанные в книге, показывают, как сложно жить простому народу на Руси, из чего и при каких условиях постепенно складывался нравственный образ русского человека. Настоящее издание приурочено к 150-летию со дня рождения писателя и открывает новую серию «Волжский роман».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ее любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску полатей, горячо шипит:
— Случайный ты мой, божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо легкое! Спит, — спи, робенок, одень твою душеньку веселый сон, приснись тебе невестушка, первая раскрасавица, королевишна, богачка, купецкая дочь! А недругам твоим — не родясь издохнуть, а дружкам — жить им до ста лет, а девицы бы за тобой — стаями, как утки за селезнем!
Мне нестерпимо смешно: грубый и ленивый Виктор похож на дятла — такой же пестрый, большеносый, такой же упрямый и тупой.
Шёпот матери иногда будил его, и он бормотал сонно:
— Подите вы к чёрту, мамаша, что вы тут фыркаете прямо в рожу мне!.. Жить нельзя!
Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь:
— Ну, спи… спи, грубиян…
Но бывало и так: ноги ее подгибались, шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клокотали жгучие слова:
— Та-ак? Это ты мать к чёрту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!
Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы — было жутко слышать их.
Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня.
— Что вы?
— Молчи, — шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте. — Господи… Илья пророк… Великомученица Варвара… сохрани нечаянныя смерти…
Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ее круглое носатое лицо напряженно надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, измененным сумраком. Кухня — большая, но загромождена шкафами, сундуками; ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонек неугасимой лампады пред образами, на стене сверкают ножи, как ледяные сосульки, на полках — черные сковородки, чьи-то безглазые рожи.
Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлепая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову; там же стояла кадка с водой.
Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно, сквозь голубой узор инея на стеклах.
— Помилуй мя, боже, помилуй мя, — просит она шёпотом.
Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела:
— Кто меня любит, господи, кому я нужна?
Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки; выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал: жаль, что не на ней женился дедушка, вот бы грызла она его! Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо ее становилось грустным, глаза тонули в слезах и она очень убедительно говорила:
— Ты думаешь — легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила — для чего? Вот — живу кухаркой у них, сладко это мне? Привел сын чужую бабу и променял на нее свою кровь — хорошо это? Ну?
— Нехорошо, — искренно говорил я.
— Ага? То-то…
И она начинала бесстыдно говорить о снохе:
— Бывала я с нею в бане, видела ее. На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?..
Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно; сначала ее речи вызывали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду.
— Баба — сила, она самого бога обманула, вот как! — жужжала она, пристукивая ладонью по столу. — Из-за Евы все люди в ад идут, на-ка вот!
О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что «Ева — бога обманула».
На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом; из восьми квартир двух зданий в четырех жили офицеры, в пятой — полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе неустанно кипело то, что называется развратом, распутством, — звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.
Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:
— Довольно, мамаша…
— Господи, уж и слова мне нельзя сказать! — жаловалась рассказчица.
Виктор поощрял ее:
— Валяйте, мамаша, чего стесняться! Всё свои ведь…
Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.
— Напрасно вы, мамаша, берете деньги, не жалко мне их, а — напрасно!
— Я ведь для нищих, я — на свечи, в церковь…
— Ну, какие там нищие? Испортите вы Виктора вконец.
— Не любишь ты брата, великий грех на тебе!
Он уходил, отмахиваясь от нее.
Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал:
— Не могла больше-то, гвозди-козыри!
— А ты жри скорее, чтобы не увидали…
— Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруешь, вилки в затылке!
Однажды я достал горшок и съел пару оладий, — Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щель, стараясь попасть мне на голову.
Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.
— Мамаша — кругом направо! — где мои носки?
Он преследовал меня глупыми вопросами:
— Алешка, отвечай: почему пишется — синенький, а говорится — финики? Почему говорят — колокола, а не — около кола? Почему к дереву, а не — где плачу?
Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело», мне казалось, что смешное не может быть ужасным, веселое — не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.
Я спрашивал их:
— Разве можно так говорить?
Они ругались:
— Какой учитель, скажите! Вот — нарвать уши…
Но и «нарвать уши» казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.
Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:
— А все-таки уши-то не оторваны!
Кругом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства — неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного «публичными домами», «гулящими» девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тяжелая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная сутолока, суета. И на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука.
Плохо мне жилось, но еще хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости моя бабушка. Она являлась с черного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.
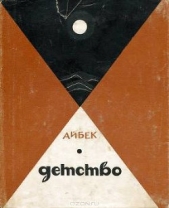

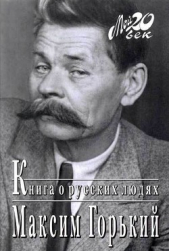


![Биограф[ия]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















