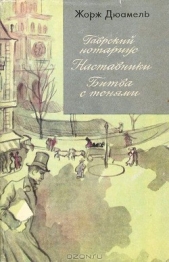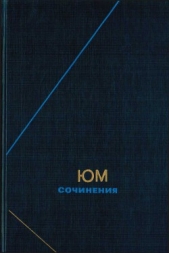Хроника семьи Паскье. Гаврский нотариус. Наставники. Битва с тенями

Хроника семьи Паскье. Гаврский нотариус. Наставники. Битва с тенями читать книгу онлайн
Книга содержит три наиболее значительных романа из цикла "Хроника семьи Паскье". В первом романе описывается детство героя Лорана Паскье, во втором романе рассказывается о сложных взаимоотношениях Лорана Паскье со своими "наставниками" - учеными, и, наконец, в третьем романе показан острый конфликт того же героя с чиновной и научной средой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вюйом и Совинье засмеялись. Я не рассердился на них. У моих коллег нет тех оснований, что у меня, уважать г-на Шальгрена. И все же слова профессора показались мне излишне грубыми. Как только он ушел, мы, препараторы, разговорились по душам. Мои товарищи заинтересованы оборотом, принятым за последние дни ссорой «старцев», как называет наших патронов Совинье. Вероятно, моим коллегам не известно все, что известно мне, таково уж мое печальное преимущество. Короче говоря, ссора эта давняя, и ей следовало бы оставаться в рамках приличия, как это обычно бывает, когда двое людей одинаковой профессии невзлюбят друг друга. Г-н Ронер обвиняет Шальгрена в том, что его рационализм замешан на розовой водичке, что он скатывается к дилетантизму, к томизму (?!), вступает в сделку со своей совестью и ведет Общество по рационалистическим изысканиям к расколу и анархии. Шальгрен упрекает Ронера в примитивном рационализме, в школьной философии, в том, что он толкает учение на путь нетерпимости и якобинства.
Ты читаешь эти строки, дорогой Жюстен, и тебе, наверно, кажется, что можно с первого взгляда обнаружить идеологическую сущность разногласия. И, однако, это еще не подлинная сущность. Никогда не удается обнаружить подлинной сущности. Всегда имеется еще что-то другое.
Позавчера я невзначай встретил Шлейтера в коридоре Сорбонны. В разговоре с ним я осторожно затронул вопрос об идейной борьбе между Ронером и Шальгре-ном. Он рассмеялся незримым смехом, клокочущим где-то глубоко в груди, и выразил свое мнение по поводу чувства ненависти, которое питают друг к другу оба мои патрона. Оказывается, это не что иное, как ненависть. Г-н Шальгрен член Академии наук с 1906 года. Он вступил в нее два года спустя после г-на Ронера, и тот, говорят, сделал все возможное, чтобы преградить ему дорогу. Теперь оба они академики; но во время заседаний делают вид, будто незнакомы. Кроме того, профессор Ронер говорит о г-не Шальгрене не иначе как искажая его фамилию, произносит ее Шапегрен или Шатегрен. Я уже заметил эту манеру Ронера, но не вполне понимал до сих пор, что она означает. Увы! Увы!
Шлейтер говорил долго. Я слушал его, понурившись. Итак, чисто идейных распрей не бывает. Бывают лишь распри, вызванные чувствами и страстями. Когда ссорятся двое любовников, двое супругов или двое друзей, они призывают на выручку идеи, доктрины и философские системы; но суть разногласий редко лежит в голове: она коренится в плоти и в крови. О, я и прежде догадывался об этом. Я во многом винил отца в плане чисто философском, я упрекал его в том, что у него безотносительное, ребячливое представление о науке, что он простодушно смешивает науку и мудрость, не интересуется ни Шопенгауэром, ни Ницше, пренебрегает ценностями, которые я ставлю во главу угла. Но все это немногого бы стоило, если бы отец сделал так, чтобы я мог полюбить его попросту, от всего сердца. Идеи служат украшением нашей ненависти или нашей любви, но определяющим являются страсти, которые управляют нами даже в том случае, когда мы имеем честь быть Ронером или Шальгреном.
От беседы со Шлейтером у меня остался весьма неприятный осадок. Смею тебя заверить, Жюстен, что эти прискорбные открытия не слишком повлияли на почтительное восхищение, которое я питаю к избранным мною наставникам. Однако они нарушили ту прекрасную ясность духа, о которой я тебе недавно писал.
Не подлежит сомнению, что козни Сенака содействовали этому кризису. Но я до сих пор не могу понять, как он взялся за дело, чтобы произвести свой так называемый «опыт». К г-ну Ронеру не слишком легко подступиться. Постараюсь осторожно расспросить Совинье, по-моему, он парень продувной.
Я познакомился со статьей из «Медицинской прессы». Для стороннего читателя статья безупречна. Можно подумать, что г-н Николя Ронер ведет спор с тенями где-нибудь под портиком. Но для меня, знающего теперь всю подноготную дела, статья приобретает иное звучание. В ней нет ни одного слова, которое не было бы направлено против идей г-на Шальгрена и даже — впрочем, и это довольно заметно — против привычек и личности моего дорогого патрона. Проанализируй хотя бы такое место: «По мнению иных, в общем вполне респектабельных ученых, биология будущего должна дремать в пыльных, плохо оборудованных и плохо управляемых лабораториях в ожидании милостей поэтического вдохновения. Мы же, биологи XX века, убеждены, что явления природы надо наблюдать при ярком, холодном свете разума, не измышлять, а именно наблюдать с помощью безупречной аппаратуры и при поддержке верящего нам дисциплинированного народа и т. д. и т. п.» Я не стану приводить других высказывании. Вся статья выдержана в том же духе.
Созыв Биологического конгресса явно обостряет дискуссию, что весьма прискорбно. Не помню, писал ли я тебе об этом Конгрессе — мне столько еще надо тебе сказать. Он должен состояться в Париже, в конце зимы. Этот Конгресс не обычный, а чрезвычайный. Он ставит себе целью доказать с полной наглядностью, объединив ученых различных отраслей науки, что биология основывается в наши дни на химии, на физике, на физиологии,
на медицине, скажем лучше — на всех науках, чтобы не забыть ни одной. Сначала председательствовать на Конгрессе предложили Бертело, который был не только выдающимся ученым, но и министром в отставке, что неизменно льстит французам с их несколько извращенным пристрастием к политическому декоруму. К несчастью, Бертело умер. Обратились к г-ну Ру, который пользуется большой любовью среди народа. Г-н Ру уклонился. Он человек осмотрительный, холодный, прекрасно знающий, что он хочет и чего не хочет. После предварительных переговоров пост был предложен моему патрону Оливье Шальгрену, члену Французского института, члену Академии медицинских наук, профессору Французского коллежа, председателю Общества по рационалистическим изысканиям и т. д. и т. п. Г-н Шальгрен, надо признаться, тут же согласился. В первый день намечено провести торжественное собрание с военным оркестром в Сорбонне, а вечером второго или третьего дня устроить грандиозный банкет в Пале д'Орсэ. Организаторы просили г-на Ронера выступить с речью на этом банкете. Г-н Ронер еще не дал согласия, так как он надеялся председательствовать на Конгрессе. Таково положение вещей в данную минуту.
Да, да, это ужасно! Поверь, я не разочарован. У меня нет нелепых иллюзий. Я знаю, что люди есть люди, даже если они и крупные ученые. Но все это задевает меня, причиняет мне боль. Патрон что-то замышляет. Видимо, собирается ответить на статью в «Прессе». Он работает без устали. При входе к нему в кабинет я застаю его среди вороха бумаг. Обычно он пишет легко, а тут возвращается к каждой фразе, шлифует ее, оттачивает. Он больше не говорит со мной о Сенаке. Я заметил, однако, что он не дает ему переписывать ничего существенного. Г-н Шальгрен очень добр. Он вполне может, да и всегда мог выставить вон Сенака. Он этого не сделал. Должен тебе признаться, я сбит с толку и не знаю, что мне еще предпринять. На днях Сенак зашел из библиотеки ко мне в лабораторию Коллежа. Он наклонился к самому моему уху и проговорил чуть слышно:
— Вот видишь, я все еще прихожу сюда, хотя мне это и дорого стоит. Хочется оказать тебе услугу.
Трудно объяснить чувство неловкости, которое я испытываю в этом ложном положении. Сегодня утром, когда я собирался показать г-ну Шальгрену вычерченные мною кривые и спросить, какого он мнения о них, патрон обернул ко мне свое прекрасное бледное лицо и неожиданно сказал:
— Я не боюсь критики. Стараюсь даже извлечь из нее пользу. Но критике легко причинить мне боль, потому что она сразу обнаруживает мои уязвимые места. Не надо долго распространяться о моих ошибках, чтобы убедить меня и привести в отчаяние. Я сразу же соглашаюсь с противником, с его мнением. Мне не приходится делать усилия над собой, чтобы признаться в моих недостатках, в моих ошибках.
Он явно страдал, и я отвернулся, так как слезы жгли мне глаза.
Мы принялись за работу, спокойствие вернулось к нам. Я долго считал, что оно вернулось навсегда, что эта ссора была нелепым кошмаром, что я опять сумею мирно работать под руководством избранных мною наставников. Я знаю обоих ученых, знаю как людей и по их трудам: оба они ищут истину, ищут страстно, бескорыстно. Значит, надежда не потеряна. Линия моего поведения ясна: даже если они будут работать порознь, я постараюсь понять их и по-прежнему любить обоих.