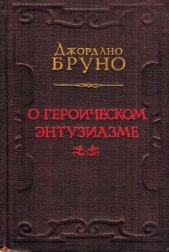Трактат о манекенах
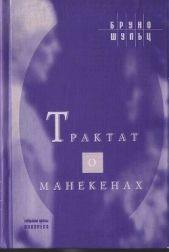
Трактат о манекенах читать книгу онлайн
Бруно Шульц — выдающийся польский писатель, классик литературы XX века, погибший во время Второй мировой войны, предстает в «Трактате о манекенах» блистательным стилистом, новатором, тонким психологом, проникновенным созерцателем и глубоким философом.
Интимный мир человека, увиденный писателем, насыщенный переживаниями прелести бытия и ревностью по уходящему времени, преображается Бруно Шульцем в чудесный космос, наделяется вневременными координатами и светозарной силой.
Книга составлена и переведена Леонидом Цывьяном, известным переводчиком, награжденным орденом «За заслуги перед Польской культурой».
В «Трактате о манекенах» впервые представлена вся художественная проза писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но пришел новый начальник, и все кончилось.
А сейчас часто, если погода хорошая, я сижу на скамейке в маленьком скверике напротив городской школы. С боковой улицы долетает стук топоров — там колют дрова. Девушки и молодые женщины возвращаются с рынка. У некоторых серьезные, правильного очертания брови, и они идут, глядя из-под них угрожающе, упруго и сурово — ангелицы с корзинами, наполненными овощами и мясом. Иногда они останавливаются перед магазинами и глядят на свое отражение в витрине. Потом уходят, бросив свысока надменный, муштрующий взгляд за спину, на пятку собственной туфельки. В десять на порог школы выходит сторож, и его крикливый звонок своим дребезжанием наполняет всю улицу. И тогда школа изнутри словно взрывается внезапным грохотом, от которого едва не рушится здание. Подобно беглецам, в начавшейся всеобщей суматохе, из дверей школы, как из пращи, вылетают маленькие оборвыши, с верещанием скатываются по ступенькам и, оказавшись на свободе, начинают скакать, как безумные, бросаясь слепо, между двумя взмахами век, в какие-то сумасшедшие предприятия. Иногда в исступленной беготне друг за дружкой они проносятся мимо моей скамейки, бросая в мою сторону на бегу невразумительные ругательства. При резких гримасах, которые они строят, лица их словно расчленяются. Как стая захваченных чем-то обезьян, пародийно комментирующих свои шутовские проделки, их компания с яростной жестикуляцией и адским криком проносится мимо меня. И я вижу их вздернутые, чуть обозначенные носишки, в которых не могут удержаться сопли, их разорванные воплями рты, маленькие стиснутые кулачки. Бывает, они останавливаются около меня. Странно, но они принимают меня за сверстника. Рост мой давно уже стал утрачиваться. А расслабленное, одрябнувшее лицо стало походить на детское. Я немножко конфужусь, когда они бесцеремонно обращаются ко мне на «ты». А когда в первый раз один из них ударил меня в грудь, я свалился под скамейку. Но не обиделся. Меня извлекли из-под нее, блаженно смущенного и восхищенного столь необычным и взбадривающим обращением. И я постепенно зарабатываю приязнь и популярность тем, что не обижаюсь ни на какие резкости их пылкого savoir-vivre [13]. Легко догадаться, что с тех пор карманы мои полны пуговицами, камешками, катушками, кусками резины. Это чрезвычайно облегчает обмен мыслями и составляет естественный помост для навязывания дружеских отношений. При этом, поглощенные материальными интересами, они меньше обращают внимания на меня самого. Под прикрытием извлеченного из карманов арсенала сокровищ я могу не опасаться, что их любознательность и дотошность станут в отношении меня чересчур назойливыми.
В конце концов я решил реализовать один замысел, который уже некоторое время не давал мне покоя.
Был безветренный, мягкий и задумчивый день, один из тех дней поздней осени, в которые год, исчерпавший все краски и оттенки этой поры, словно возвращается к весенним регистрам календаря. Бессолнечное небо расслоилось цветными полосами, ласковыми пластами кобальта, ярь-медянки и салатно-зеленого, а по самой кромке его замыкала полоса чистой, как вода, белизны — невыразимого и давно забытого цвета апреля. Я надел все самое лучшее и не без некоторой дрожи вышел из дому. В безветренной ауре дня шел я быстро, не встречая преград и ни разу не свернув с прямой линии. Не переводя дыхания, взбежал по каменным ступеням. Alea iacta est [14] — мысленно сказал я себе, постучавшись в двери канцелярии. В скромной позе просителя, как и пристало мне в новой моей роли, я стоял перед столом пана директора. И испытывал некоторое замешательство.
Директор извлек из застекленной коробки жука на булавке и сбоку поднес его к глазам, рассматривая против света. Его пальцы с короткими и коротко обстриженными ногтями были испачканы чернилами. Он глянул на меня из-под очков.
— Итак, пан советник хотел бы записаться в первый класс? — произнес он. — Весьма похвально и достойно подражания. Я понимаю, вы хотите заново, с основ, с фундамента, отстроить здание своего образования. Я всегда утверждал: грамматика и таблица умножения — вот основы образованности. Само собой разумеется, мы не можем воспринимать пана советника как учащегося, подлежащего правилам школьной дисциплины. Скорей, как вольнослушателя, как, если можно так выразиться, ветерана азбуки, который после долгих лет скитаний возвратился, в определенном смысле, вторично на школьную скамью. Направил свой усталый челн, позволю себе так выразиться, в эту гавань. Поверьте, пан советник, немногие выражают нам в подобной форме свою благодарность, свое признание наших заслуг, немногие после долгих годов службы, после многолетних трудов возвращаются к нам, дабы осесть тут навсегда в качестве добровольного пожизненного второгодника. Вы будете у нас на особых правах. Я всегда говорил…
— Прошу прощения, — прервал я его, — но я хотел бы заметить, что если речь идет об исключительных моих правах, то я всецело от них отказываюсь… Я не желаю никаких привилегий. Совсем напротив… Я не хочу ни в чем отличаться, более того, мне крайне важно как можно сильнее слиться, раствориться в общей массе класса. Весь мой замысел разошелся бы со своей целью, если бы у меня оказались в сравнении с остальными какие-то привилегии. Даже если речь идет о телесных наказаниях, — тут я поднял палец, — а я в полной мере признаю их благотворное нравственное воздействие, — категорически прошу не делать в отношении меня никаких исключений.
— Чрезвычайно похвально и весьма педагогично, — промолвил довольный директор. — Кроме того, полагаю, — продолжил он, — что в ваших знаниях по причине их длительного неупотребления образовались определенные пробелы. Обыкновенно в этом отношении мы предаемся чересчур оптимистическим иллюзиям, которые очень легко развеять. Скажите, вы еще помните, сколько будет, к примеру, пятью семь?
— Пятью семь… — неуверенно пробормотал я, чувствуя, как замешательство, наплывающее теплой блаженной волной мне в сердце, затуманивает ясность мыслей. Озаренный, словно откровением, своим невежеством, я чуть ли не в восторге, оттого что действительно возвращаюсь к детскому неведению, забубнил, повторяя: — Пятью семь… пятью семь…
— Вот видите, — бросил директор. — Вам самое время записаться в школу. — С этими словами он взял меня за руку и повел в класс, где шли занятия.
И опять, как полвека назад, я оказался среди того же гудения, в таком же шумном и темном от множества подвижных детских голов помещении. Маленький, я стоял в центре, держась за полу пана директора, а пятьдесят пар юных глаз присматривалось ко мне с равнодушной, жестокой деловитостью зверюшек, увидевших представителя той же самой породы. Со всех сторон мне корчили физиономии, строили рожи в приступе мимолетной враждебности, показывали языки. Я не отвечал на эти вызовы, помня о хорошем воспитании, которое некогда получил. Всматриваясь в подвижные лица, исковерканные неловкими гримасами, я припомнил точно такую же ситуацию пятидесятилетней давности. Тогда я стоял с мамой, она что-то говорила про меня учительнице. Теперь же вместо матери пан директор шептал на ухо пану учителю, который кивал, сосредоточенно глядя на меня.
— Он — сирота, — наконец объявил он классу, — у него нет ни отца, ни матери. Постарайтесь не обижать его.
От этих слов слезы навернулись мне на глаза, настоящие слезы умиления, а пан директор, сам чрезвычайно растроганный, посадил меня за первую парту.
С тех пор для меня началась новая жизнь. Школа сразу же и целиком захватила меня. В пору своей прошлой жизни я никогда не был так поглощен тысячей дел, интриг, затей. Весь, полностью, я был захвачен ими. Над моей головой пересекалось множество самых разнородных интересов. Мне посылали сигналы, телеграммы, подавали условные знаки, шикали, подмигивали и всеми возможными способами напоминали о бесчисленных обязательствах, которые я взял на себя. Я едва мог дождаться конца урока, во время которого из врожденной порядочности со стоическим терпением выдерживал все атаки, стараясь не упустить ни слова из наставлений учителя. Но едва звучал голос звонка, вопящая стая обрушивалась на меня, налетала со стихийной стремительностью, чуть ли не разрывая меня на куски. Они набегали сзади, топоча ногами по партам, перепрыгивали, перелетали у меня над головой. Каждый выкрикивал мне в уши свои претензии. Я стал центром всех интересов; самые важные сделки, самые запутанные и щекотливые дела не могли обойтись без моего участия. По улицам я ходил, неизменно окруженный этой голосящей, оживленно жестикулирующей шайкой. Собаки, поджав хвосты, далеко обходили нас, кошки при нашем приближении взлетали на крыши, а встреченные по дороге одинокие мальцы со страдальческим фатализмом втягивали голову в плечи, готовые к самому худшему.