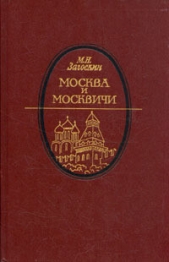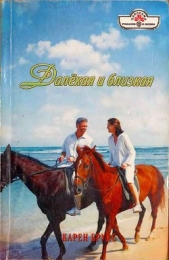Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1
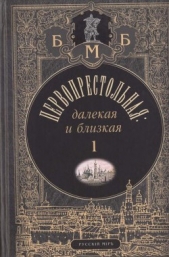
Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1 читать книгу онлайн
Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.
В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Кто верховодит всем? Начал, так сказывай всё.
— Всем крутят Афанасий Яропкин да дьяк Фёдор Стромилов. Они советуют Василью выехать из Москвы, захватить в Вологде и на Белоозере казну [116], а потом погубить Димитрия. И все заговорщики крест уже целовали на том.
— И то дело! — вздохнул Иван.
— А затем… — споткнулся немного языком дьяк. — Затем, великий государь, надо бы маленько приглядывать за теми бабами-ворожеями, что к великой княгине всё с заднего крыльца полозят. Одна из них, как мои люди проведали, всей Москве известная Апалитиха, из Зарядья, и будто она всё травы какие-то носит… Может, обыскать их велишь?
Иван уставил на него свои невыносимые глаза. Как ни привычен был к этому взгляду дьяк, а и он смутился. Он понимал, что великий государь понимает, к чему он клонит, и боялся, и надеялся. Ставка была крупная и в случае проигрыша могла стоить дьяку головы. Иван опустил своё поблекшее, в морщинах лицо. И долго думал. И вдруг решительно поднял сухую голову свою.
— Поди и распорядись: великого князя Василья взять под стражу.
— Слушаю, великий государь.
— Всех иже с ним обыскать, а баб, что с зельями на наш двор таскаются, забрать и пытать накрепко, почему они на наш двор ходят.
— Слушаю, великий государь.
— И обо всём докладывать мне без всякого промедления. Понял?
— Понял, великий государь.
— Иди. И скажи, чтобы ко мне никого не пускали.
Дьяк низко поклонился и, стараясь ступать на цыпочках, вышел из комнаты. Ставка была взята, и какая! Он никак не ожидал, что государь поведёт дело сразу так решительно. Надо и дальше продолжать своё, но с осторожностью: великий государь, старея, стал в своих решениях переменчив.
XXXIX. ПОРАЖЕНИЕ ГРЕКИНИ
Иван повёл сам всё дело розыска, точно он хотел показать всем, что рано задумали люди преемника ему искать. Сам же готовил он новое посольство к зятю своему Александру, великому князю литовскому, сам распоряжался, чтобы послать гонца в Вязьму дознать, не приезжал ли кто туда из Смоленска с тою болезнью, что болячки мечутся, а слывёт французкою, сам указывал, как содержать послов, прибывших от Литвы.
— Кроме кур и хлебов, как положено, — приказывал он строго, — отпускать им ещё по два барана. Но овчина назад!
— Слушаю, великий государь.
От Софьи он окончательно отдалился — «нача жити с нею в бережении». Властная грекиня дух затаила. Лихие бабы, что к ней с заднего крыльца полозили, были взяты. Они признались, что действительно трав они великой княгине-матушке носили не раз, но то были всё травки добрые, пользительные.
— Вот это, соколик, трава папарать бессердешная прозывается, — словоохотливо показывала обходительная, грузная, но грязноватая Апалитиха дьякам государевым. — Растёт она лицом на восток и сердца не имеет. Человеку она очень пользительна: носи её с собою, куда пойдёшь или поедешь, и никто на тебя сердит не будет. Хошь и великий недруг твой, и тот зла мыслить не будет. Выкапывают ее, кормильцы, на Иванов день скрозь серебро и заговор приговаривают: «Господи, благослови сею доброю травою, еже не имеет сердца своего в себе, и так бы не имели недруги мои на меня, раба Божия, сердца. И как люди радостны бывают о серебре, и так бы радостны были все обо мне сердцем… Сердце чисто созижди в них, Боже, и дух прав во мне». Божья травка, родимые…
— А это что? — ткнул белым пальцем дьяк Бородатый в другой пучок взятых у ворожеи трав.
— А этот цвет петров крест, прозывается, — продолжала Апалитиха, довольная, что говорит с такими высокими людьми. — Этот цвет кому кажется, а кому и нет. Растёт он по буграм, по горам, на новых местах. Цвет у него жёлт, а отцветёт, будут стручки, а в них семя. Лист, что гороховой, крестом. Корень его долог, а на самом конце подобен просвире, а то кресту. Трава сия премудрая, кормильцы. Ежели набредёшь на неё нечаянно, то верхушку заломи, а её очерти и оставь, а потом, в уречённое время, на Иванов день или на Петров день, вырой. Ежели не заломишь её, она перейдёт на другое место, на полверсты, а старое место покинет.
— А это? — ещё более недоверчиво продолжал Бородатый.
— А это трава лев, растёт невелика, а видом как лев кажется, — расточала свою премудрость Апалитиха. — В день её не увидишь, а сияет она по ночам. На ей два цвета, кормилец: один жёлт, а другой, как свеча, горит. Около её поблизу никакой травы не бывает, а которая и есть, и та приложилась к ней…
Всё это было доложено великому государю. Он решением не замедлил:
— Всех утопить.
Великая княгиня, окружённая перепуганными близкими боярынями и сенными девушками, из окна своего высокого терема видела, как повели старух на лёд Москвы-реки, к проруби портомойной, как началась у проруби возня и как вернулись оттуда пристава одни, без баб. Грекиня — она поняла, что на её глазах это было сделано неспроста — злобно затаилась, выжидая своего времени: она была из тех, которые побеждёнными себя не считают никогда…
А Москва шумела весёлой, ядрёной зимой. Под Рождество в налитых морозом и занесённых снегом улочках колядки слышны были, а в канун Васильева вечера [117] молодёжь пела песни старые:
На Крещение на Москве-реке было, как полагается, водокрестие на Ердани, а потом начались гулянья народные, торги, бега конские, бои кулачные и другие игрища. А по Москве свадьбы шумные зашумели и под окнами народ подолгу мёрз, глядя, как светло веселятся москвичи, и слушая песни старинные:
И вдруг из палат государевых страшный раскат грома: главным крамольникам, дерзнувшим в дела государские вмешаться, объявили именем великого государя смертный приговор, а немного сгодя бирючи [118], подняв на подоге шапку, пошли по всей Москве, по торгам и подторжьям, возвещая всем, что 4 числа месяца февраля в Успенском соборе состоится торжественное венчание на царство внука великого государя великого князя Дмитрия Иоанновича.
— Это которого же? — любопытно спросил мужик-владимирец, торговавший с воза клюквой мороженой. — A-а, от Ивана, что ногами помер? Так, так! Н-но, Богова, пошевеливайся! — тронул он свою задремавшую было кобылку и снова звонко запел: — По клюкву, п-по клюкву, п-по владимирску клюкву!
В назначенный день в блистающем свежей стенописью соборе митрополитом было совершено торжественное богослужение, а после него великий князь Дмитрий — это был белокурый паренек лет пятнадцати с круглым лицом и лукавыми глазками — был венчан чрез возложение на него великим государем шапки Мономаха и барм [119] на царство. Среди золотных кафтанов и высоких горлатных шапок произошло лёгкое движение: победа была за боярами. Практических последствий победа эта иметь для них не могла: великое княжение Дмитрий получил не чрез них, а прямо от своего венценосного деда, но и то уже было хорошо, что ненавистной грекине насолили и от дел её оттёрли. На полатях стояла Елена. Она уже начала немного увядать, но все ещё рослая, сильная, с красивой гордой головой, она была прекрасна. Она понимала, что шаг этот сделан в угоду ей, но решила этого не замечать. Они почти никогда уже не говорили один с другим и держались как на всё готовые враги. Иногда в тиши ночей она немножко раскаивалась, что в своих требованиях пошла слишком уж далеко, но гордость не позволяла ей сказать этого вслух. Она видела, как стареет Иван, как рушатся её мечтания теремные, но теперь седой волос в пышной косе огорчал её больше, чем эти крушения: сказка жизни скоро кончится и для неё!