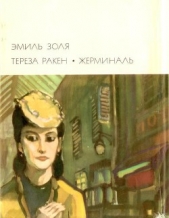Собрание сочинений. Т. 10. Жерминаль

Собрание сочинений. Т. 10. Жерминаль читать книгу онлайн
В десятый том Собрания сочинений Эмиля Золя (1840–1902) вошел роман «Жерминаль» из серии «Ругон-Маккары».
Под общей редакцией И. Анисимова, Д. Обломиевского, А. Пузикова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Около двух часов дня в поселке Двести Сорок женщины решили поговорить с Мегра. Только на него и была надежда: быть может, удастся смягчить лавочника, вымолить у него кредит еще на одну неделю. Эта мысль пришла в голову жене Маэ, — она слишком часто рассчитывала на доброту человеческую. Она уговорила жену Левака и Горелую пойти вместе с нею; жена Пьерона отказалась, заявив, что не может отойти от постели мужа — все не проходит его хворь. К троим просительницам присоединились другие женщины, всего собралось человек двадцать.
Когда по главной улице Монсу, перегородив ее во всю ширину, зашагал отряд нищенски одетых, угрюмых женщин, обыватели, глядя на них из окон, встревоженно качали головами. Во всех домах заперли двери; одна дама даже убрала подальше столовое серебро. Впервые за время забастовки видели такое шествие, и, конечно, оно не предвещало ничего хорошего; обычно все столкновения принимали опасный оборот, если на улицу выходили женщины. В лавке Мегра произошла бурная сцена. Сперва он, ехидно посмеиваясь, пригласил их войти, — якобы вообразив, что они пришли расплатиться с ним. Ах, как это мило с их стороны — сговорились друг с дружкой и пришли компанией, принесли ему долг! А затем, когда слово взяла жена Маэ, он выразил негодование. Как им не совестно! Смеются они над ним, что ли? Еще продлить им кредит? Они, значит, задумали довести его до нищеты! Ну нет, он не даст больше ни одной картофелины, ни одной крошки хлеба! Пускай обращаются в бакалейную Вердонка, в булочные Карубля и Смельтена, раз поселок теперь покупает в их лавках… Женщины слушали с испуганным и смиренным видом, приносили извинения, заглядывали ему в глаза, ждали, не разжалобится ли он. А он принялся отпускать свои обычные грубые шутки, пообещал отдать Горелой всю лавку, если она возьмет его в ухажеры. Голод довел женщин до такого малодушия, что в ответ они смеялись, а жена Левака даже говорила, что она не прочь его полюбить. Но он тут же переменил тон и стал всех гнать. Они упрашивали, молили, тогда он одну вытолкал за дверь. Сгрудившись перед его лавкой, они ругали его, обзывали продажной шкурой, а жена Маэ, охваченная негодованием и жаждой мести, призывала на него смерть, кричала, что такой человек только обременяет собою землю и зря ест хлеб.
Просительницы возвратились в поселок угрюмые, мрачные. А дома мужья, увидев, что жены вернулись с пустыми руками, молча посмотрели на них и понурили головы. Значит, в этот день так и не придется поесть, проглотить хотя бы ложку супа; а впереди в холодном мраке их ждет череда голодных дней, и нет ни единого проблеска надежды. Но ведь они заранее знали, какие муки им предстоят, никто ни слова не промолвил, что надо сдаться. От чрезмерных страданий росло их упорство, они терпели молча, как затравленные звери, готовые скорее умереть в своей норе, чем выйти наружу. Кто посмел бы первый заговорить о покорности? Ведь все поклялись держаться вместе, как в шахте, когда бывало нужно спасти товарища, засыпанного обвалом. Это был их долг, они прошли хорошую школу и научились стойкости. Как-нибудь надо вытерпеть еще неделю, стиснуть зубы, не жаловаться — недаром тянули они лямку с десяти лет, и в огне горели, и в воде тонули; в их самоотверженности была также и гордость людей, которых на каждом шагу подстерегают опасности, людей, которые не раз смотрели смерти в глаза.
Вечер в доме Маэ прошел ужасно. Все молчали, собравшись у печки, где тлели последние горсточки угля. За время забастовки мало-помалу вытащили из тюфяков всю шерсть и снесли ее к старьевщику, а третьего дня решились наконец продать часы с кукушкой, — получили за них три франка, и с тех пор комната, в которой не слышно было привычного тиканья, казалась голой и мертвой. Осталось одно-единственное украшение — стоявшая на буфете розовая коробка, давнишний подарок Маэ, которым его жена дорожила как драгоценностью. Два хороших стула уже были проданы. Бессмертный и дети сидели на старой замшелой скамье, принесенной из садика. В сгущавшихся сумерках всем как будто было еще холоднее.
— Как же быть теперь? — повторяла мать, сидя на корточках у печки.
Этьен стоял, глядя на портреты императора и императрицы, наклеенные на стену. Он давно бы их содрал, если бы хозяева не защищали свою картинную галерею. Он процедил сквозь зубы:
— Что, лодыри проклятые, за ваши рожи не дадут и двух су! Так и будете тут висеть да любоваться, как мы дохнем с голоду?
— Может, коробку продать? — нерешительно спросила жена.
Маэ, угрюмо сидевший на краешке стола, резко выпрямился:
— Нет, не хочу. Не продавай!
Жена с трудом поднялась и обошла всю комнату.
— Господи боже, до какой нищеты дошли! В буфете ни единой корочки, и продать нечего, не придумаешь, как достать хлеба! А тут еще и огонь того гляди угаснет.
И она принялась бранить Альзиру: вот послала ее утром на террикон пособирать угля, а девчонка вернулась с пустыми руками. Компания теперь запрещает беднякам собирать угольную мелочь. Да что Компанию слушать? Кому люди урон наносят, если подбирают крохотные осколочки угля? Девочка плача рассказывала, как сторож увидел ее и пригрозил затрещиной, если не послушается; и все же она пообещала матери, что завтра опять пойдет на террикон — пусть даже сторож ее отколотит.
— А этот поганец Жанлен куда девался? — кричала мать. — Где он, спрашивается?.. Я его послала салату нарвать; хоть бы травы пожевали, как овцы! А вот увидите, он не придет. Вчера ведь не ночевал дома. Не знаю, чем Жанлен промышляет, а похоже, что всегда сыт.
— Может, милостыню просит на улице? — заметил Этьен.
Мать вскипела, затрясла кулаками:
— Ох, если я узнаю!.. Не позволю своим детям милостыню просить!.. Лучше я их своими руками убью, а потом… потом и себя порешу!
Маэ опять вяло опустился на край стола. Ленора и Анри, удивляясь, что их не кормят, принялись хныкать; старик дед с философским спокойствием перекатывал язык во рту, стараясь заглушить голод. Все умолкли, оцепенев перед лицом страшной беды; дед кашлял и сплевывал черным; его мучил обострившийся ревматизм, который уже привел к водянке; отец тяжело дышал от астмы, колени у него распухли, мать и дети страдали от наследственной золотухи и наследственного малокровия. На это они не жаловались: что поделаешь, это неизбежно, такова судьба углекопов и их потомства. Страшно было то, что в поселке люди таяли от истощения и мерли как мухи. Надо же все-таки достать что-нибудь на ужин. Что делать, к кому пойти? Боже мой! Все больше сгущались сумерки, все темнее и угрюмее становилось в комнате; Этьен задумался и, не выдержав, решился наконец сделать то, что ему так претило.
— Подождите меня, — сказал он. — Я схожу поищу.
И он вышел. Ему пришло в голову обратиться к Мукетте. Возможно, у нее есть хлеб, и с ним-то она охотно поделится. Неприятно было идти в Рекильяр; Мукетта опять будет целовать ему руки, словно покорная раба. Но ведь нельзя же бросить друзей в беде; если понадобится, он готов был ласково обойтись с ней.
— И я пойду поищу, — сказала мать. — Не помирать же…
Она вышла вслед за Этьеном, громко стукнув дверью. Остальные сидели безмолвно, неподвижно, при тусклом свете огарка, который зажгла Альзира.
На улице мать на секунду остановилась в нерешительности, потом направилась к Левакам.
— Слушай-ка, я тебе недавно дала каравай хлеба взаймы. Можешь ты мне отдать сейчас?
И тут же она остановилась: картина, представшая перед ее глазами, была безотрадна, — здесь еще больше чувствовалась нищета, чем в ее доме.
Жена Левака сидела, не сводя взгляда с потухшего очага, а сам Левак, которого угостил вином приятель с гвоздильного завода, сразу опьянел, выпив на пустой желудок, и теперь спал за столом, уронив голову на руки. Бутлу сидел, прислонившись к стене, и машинально потирал себе плечи; на его благодушном глуповатом лице застыло удивленное выражение: вот проели все его сбережения, теперь ему приходится голодать, — как же это так?
— Хлеб? Ох, милая ты моя! — заговорила жена Левака. — А я-то хотела было попросить у тебя еще один каравай.