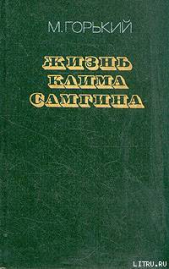Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть четвертая
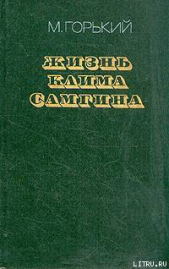
Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть четвертая читать книгу онлайн
15 марта 1925 года М. Горький писал С. Цвейгу: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького). «...Очень поглощен работой над романом, который пишу и в котором хочу изобразить тридцать лет жизни русской интеллигенции, – писал М. Горький ему же 14 мая 1925 года. – Эта кропотливая и трудная работа страстно увлекает меня» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького).
«...Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни. Большая – измеряя фунтами – книга будет, и сидеть мне над нею года полтора. Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го» (Архив А. М. Горького).
Высказывания М. Горького о «Жизни Клима Самгина» имеются в его письмах к писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, относящихся к 1927 году, когда первая часть романа только что вышла в свет. «В сущности, – писал М. Горький, – эта книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле...» (из письма от 16 августа. Архив А. М. Горького).
И немного позднее:
«Вы, конечно, верно поняли: Самгин – не герой» (из письма от 8 сентября 1927 года. Архив А. М. Горького).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это было встречено с большим интересом, всех примирило, а Орехова даже прослезилась:
— Домучили!
Стали расспрашивать Дронова о подробностях, но он лаконически ответил:
— Все, что знаю, — сказал...
Дронов сел рядом с Самгиным, попросил:
— Ты мне вина, Роза! Белого. И глубоко вздохнул.
— Кто этот красавец?
— Шемякин, чорт его... После расскажу. И, глядя, как Грейман силится вытащить пробку из горлышка бутылки, он забормотал:
— Был на закрытом докладе Озерова. Думцы. Редактора. Папаша Суворин и прочие, иже во святых. Промышленники, по производствам, связанным с сельским хозяйством, — настроены празднично. А пшеница в экспорт идет по 91 копейке, в восьмом году продавали по рубль двадцать. — Он вытащил из кармана записную книжку и прочитал: — «В металлургии капитал банков 386 миллионов из общей суммы 439, в каменноугольной — 149 из 199». Как это понимать надо?
— Я — не экономист, — откликнулся Самгин и подумал, что сейчас Иван напоминает Тагильского, каким тот бывал у Прейса.
Дронов спрятал книжку, выпил вина, прислушался к путанице слов.
— Величайший из великих, — истерически кричал Ногайцев. — Величайший! Не уступлю, Федор Васильевич, нет!
— Докажите... Дайте мне понять, какую идею-силу воплощал он в себе, какие изменения в жизни вызвала эта идея? Вы с учением Гюйо знакомы, да?
— Да-а! Толстой... Не трогает он меня. Чужой дядя. Плохо? Молчишь...
— Так — кто же этот Шемякин?
— Побочный сын какого-то знатного лица, чорт его... Служил в таможенном ведомстве, лет пять тому назад получил огромное наследство. Меценат. За Тоськой ухаживает. Может быть, денег даст на газету. В театре познакомился с Тоськой, думал, она — из гулящих. Ногайцев тоже в таможне служил, давно знает его. Ногайцев и привел его сюда, жулик. Кстати: ты ему, Ногайцеву, о газете — ни слова!
«Можно подумать, что он пользуется любовницей, чтоб привлекать богатых», — подумал Самгин.
— Гюйо? — гудел Говорков. — Кто же теперь читает Гюйо?
— О, господи! — с отчаянием восклицал Ногайцев. — Как же это? Всем известно: толстовство было...
— Толстого им надолго хватит, — сказал Дронов.
— Шумные люди, — заметил Самгин, чтобы не молчать.
Дронов, держа стакан в руке, как палку, прихлебывая вино, поправил Самгина:
— Пустые — хотел ты сказать. Да, но вот эти люди — Орехова, Ногайцев — делают погоду. Именно потому, что — пустые, они с необыкновенной быстротой вмещают в себя все новое: идеи, программы, слухи, анекдоты, сплетни. Убеждены, что «сеют разумное, доброе, вечное». Если потребуется, они завтра будут оспаривать радости и печали, которые утверждают сегодня...
— Совсем как вы, — неожиданно, вполголоса сказала Роза Грейман.
— Нет, Розочка, не совсем так, — серьезно возразил Дронов.
— Так, — твердо и уже громко сказала она. — Вы тоже из тех, кто ищет, как приспособить себя к тому, что нужно радикально изменить. Вы все здесь суетливые мелкие буржуа и всю жизнь будете такими вот мелкими. Я — не умею сказать точно, но вы говорите только о городе, когда нужно говорить уже о мире.
Говорила она с акцентом, сближая слова тяжело и медленно. Ее лицо побледнело, от этого черные глаза ушли еще глубже, и у нее дрожал подбородок. Голос у нее был бесцветен, как у человека с больными легкими, и от этого слова казались еще тяжелей. Шемякин, сидя в углу рядом с Таисьей, взглянув на Розу, поморщился, пошевелил усами и что-то шепнул в ухо Таисье, она сердито нахмурилась, подняла руку, поправляя волосы над ухом.
Орехова крикливо спросила:
— Что значит — о мире?
— Вы — не знаете?
И Роза начала перечислять:
— О революции турок, о разгоне меджилиса в Персии, об уничтожении финляндской конституции, об аннексии Боснии, Герцеговины Австрией, Кореи — Японией, о том, что немцы отвергли предложение Англии о сокращении морского флота, а социал-демократы не реагировали на это. Вот это — мир!
— И — что же прикажете мне делать с ним? — шутливо спросил Ногайцев.
Не ответив ему, Грейман продолжала:
— И в Китае — движение. Вы говорите о Толстом. Что вы сказали о нем? У него — нехорошая жена, неудачные дети, и в нем много противоречивого между художником и мыслителем. Вот и все. А Толстой — человек мира, его читают все народы, — жизнь бесчеловечна, позорна, лжива, говорит он. Он еще не зарыт в землю, но вы уже торопитесь насыпать сора на его могилу. Это — возмутительно. Поймите: Толстой убеждает изменить мир, а вы? Вы стараетесь изолировать себя от жизни, ищете места над нею, в стороне от нее, да, да. Именно к этому сводится ваша критика.
Самгин еще в начале речи Грейман встал и отошел к двери в гостиную, откуда удобно было наблюдать за Таисьей и Шемякиным, — красавец, пошевеливая усами, был. похож на кота, готового прыгнуть. Таисья стояла боком к нему, слушая, что говорит ей Дронов. Увидав по лицам людей, что готовится взрыв нового спора, он решил, что на этот раз с него достаточно, незаметно вышел в прихожую, оделся, пошел домой.
Было уже очень поздно. [На] пустынной улице застыл холодный туман, не решаясь обратиться в снег или в дождь. В тумане висели пузыри фонарей, окруженные мутноватым радужным сиянием, оно тоже застыло. Кое-где среди черных окон поблескивали желтые пятна огней.
«Демократия, — соображал Клим Иванович Самгин, проходя мимо фантастически толстых фигур дворников у ворот каменных домов. — Заслуживают ли эти люди, чтоб я встал во главе их?» Речь Розы Грейман, Поярков, поведение Таисьи — все это само собою слагалось в нечто единое и нежелаемое. Вспомнились слова кадета, которые Самгин мимоходом поймал в вестибюле Государственной думы: «Признаки новой мобилизации сил, враждебных здравому смыслу».
«Да, — соображал Самгин. — Возможно, что где-то действует Кутузов. Если не арестован в Москве в числе «семерки» ЦК. Еврейка эта, видимо, злое существо. Большевичка. Что такое Шемякин? Таисья, конечно, уйдет к нему. Если он позовет ее. Нет, будет полезнее, если я займусь литературой. Газета не уйдет. Когда я приобрету имя в литературе, — можно будет подумать и о газете. Без Дронова. Да, да, без него...»
Это было одно из многих его решений, с ним он и заснул.
Но поутру, лежа в постели, раскуривая первую папиросу, он подумал, что Дронов — полезное животное. Вот, например, он умеет доставать где-то замечательно вкусный табак. На новоселье подарил отличный пейзаж Крымова, и, вероятно, он же посоветовал Таисье подарить этюд Жуковского — сосны, голубые тени на снегу. Пышное лето, такая же пышная зима.
Сквозь занавесь окна светило солнце, в комнате свежо, за окном, должно быть, сверкает первый зимний день, ночью, должно быть, выпал снег. Вставать не хотелось. В соседней комнате мягко топала Агафья. Клим Иванович Самгин крикнул:
— Дайте кофе сюда. «Да, Дронов — полезен. Как Санчо Панса. Хотя я и не дон-Кихот. Он — неглуп, Иван».
Дронов заочно знакомил его с присяжным поверенным Антоном Сергеевичем Прозоровым:
— Светило не из крупных и — угасающее. Изъеден многими болезнями, и скоро они его доедят до конца. Обжора и бабник. Живет с последней из десятка. Взял ее с эстрады, внушил, что она должна играть в драме, а в драме она оказалась совершенно бездарной и теперь мстит ему за то, что он испортил ей карьеру: не помешай он ей — она была бы знаменита, как Иветт Гильбер. Ежегодно возит его в Париж, — без Парижа она не может жить. Дела у него — запутаны, и предупреждаю — репутация неважная: гонорары — берет, но дважды пропустил сроки апелляции, и в одном случае пришлось уплатить клиенту сумму его иска: совет, рассмотрев жалобу клиента, признал иск бесспорным.
Прозоров оказался мужчиной длинным, тонконогим, со вздутым животом, живот, выпирая из жилета и брюк, показывал белую полосу рубахи. Голова у него была не по росту большая, и в профиль он напоминал гвоздь, изогнутый посредине. На полуголом желтом черепе рассеяны седоватые остатки бывших кудрей ржавого цвета. Щеки украшала борода, ее прямые, редкие волосы на подбородке оканчивались острым клином. Измятое лицо, серые мешки оттягивали веки, обнажали выцветшие мокрые глаза. На переносье длинного, красноватого носа дрожало пенснэ, но Прозоров смотрел через него.