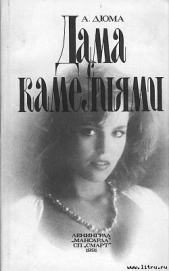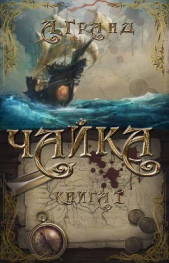Кого я смею любить. Ради сына

Кого я смею любить. Ради сына читать книгу онлайн
В книге классика современной французской литературы и признанного мастера семейного романа представлены два произведения: "Кого я смею любить" (1955-1956) и "Ради сына" (1959-1960).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
лекции, да и позднее я нередко отдавался ей среди тягостного молчания, царившего в нашем доме. Полузакрыв
глаза, я осторожно изо дня в день веду наблюдения, запоминаю все на будущее, делаю записи в уме, испещряю
заметками свою память. Одна из моих слабостей — перечитывать, комментируя, ночи напролет этот
хранящийся в моей голове дневник, вызывать в памяти одного за другим те семь человек — в том числе и себя,
— которые составляют весь мой мир.
Но мне не под силу дать истинную оценку происходящему, поставить, как я это называю, все точки над
“i”. Удовольствуемся тем, что обратимся в привычной для меня последовательности к моей семерке.
Мамуля. (Начнем с нее из уважения к возрасту, если не возражаете. В первую очередь обычно хочешь
разделаться с тем, чем меньше дорожишь.)
Каникулы и деревенский воздух, по ее мнению, не принесли ей никакой пользы. Она вся как-то
съежилась. Теперь из-под копны желтовато-белых волос на вас смотрело маленькое ссохшееся лицо с вечно
сонными глазами, которое лишь отдаленно напоминало прежнюю амазонку.
Однако не следовало слишком доверяться ее сонному взгляду — мадам Омбур отнюдь не отказалась от
своей сокровенной мечты. Она без конца повторяла надоевший припев: “Лора наша жемчужина, Лора наше
сокровище”. Время от времени ее отвисшая нижняя губа обнажала уцелевшие корешки зубов и во рту
шевелился длинный, как у ящерицы, язык. Она и мне приписывала свои немощи. Говорила о моем возрасте,
чтобы лишний раз подчеркнуть, как необходимо мне в конце концов устроить свою жизнь.
Вот и вам перевалило за сорок, Даниэль! Мы с вами оказались по одну сторону перевала. Вы заметили,
только после сорока говорят “перевалило”. А кто перевалил перевал, тот докучлив стал. Конечно, у меня за
плечами семь десятков лет, но и у вас уже четыре. Теперь нас так и будут называть докучливыми, разве что мы
перешагнем через девятый десяток и доживем до ста лет; тогда нас с вами все уважать станут, мы будем
служить редкостным образцом живучести человеческой породы.
В скудеющем уме мадам Омбур все время всплывала мысль, которую она, видимо, считала находкой:
— А вы все еще холостяк, докучливый холостяк. Вот так, мой милый Даниэль.
Лора. О том, что ей исполнилось тридцать, мадам Омбур не вспоминала. Правда, возраст не имел
существенного значения для моей свояченицы, которая, казалось, давно переступила этот рубеж. Она почти не
менялась и, верно, долго еще будет оставаться такой же. Есть разновидность хрупких старых дев, срок годности
которых ограничен, как и некоторых лекарств. Есть и более устойчивая категория вроде консервированных ягод,
но и они со временем прокисают. А Лора, очевидно, относилась к типу старых дев, напоминающих варенье: ее
терпеливость и кротость, подобно засахарившейся пленке, предохраняли ее от порчи.
Как всегда молчаливая, вездесущая и незаметная, она не уставала заниматься всем тем, что у нас,
мужчин, принято называть пустяками, отдавала этому все свои силы, находя радость в бесконечных,
изнурительных хлопотах. Хрупкий муравей, упорный муравей, невольно заставляющий мечтать о
легкомысленных стрекозах. А ведь она была миловидна, но ее неисправимая почтительность лишала ее всякого
очарования.
Единственное новшество, которое открыла мне веревка с сушившимся на ней бельем: Лора не носила
больше старомодных батистовых рубашек, отделанных кружевами, и трикотажных панталон. С тех пор как
Луиза высмеяла ее в моем присутствии, на веревке появилось такое же, как и у моей дочери, белое воздушное
нейлоновое белье, на котором расцветали яркие пластмассовые зажимы.
Во всем остальном она была убежденной противницей всего нового.
Луиза. Ну уж про нее этого не скажешь. Внешне, хотя она и походила на меня (дочерям иногда удается
подобный фокус, они создают улучшенный вариант), она была на редкость хороша. Правда, цвет лица у нее по-
прежнему был как у целлулоидной куклы, но она усердно запудривала этого краснощекого голыша от уха до
уха.
Ее нравственными качествами я был куда менее доволен. Она раскачивала бедрами, оборачивалась в
восторге, заметив, что за ней украдкой следует какой-нибудь юноша, плохо занималась, пропускала уроки, хотя
была уже в последнем классе — классе риторики. Дома она начала дерзить и даже пыталась командовать
Лорой, которой, однако, охотно уступала всю работу по хозяйству и даже стирку своего белья. Я еще мог
примириться с тем, что она уже не была такой ласковой, как прежде, и понемногу отдалялась от меня, что ее все
более привлекала женская дружба, столь необходимая в семнадцать лет. Но ни бабушка, ни тетка не смогли
стать поверенными ее тайн. Луиза предпочитала им маленькую Лебле и других пигалиц в узких брючках,
которые иногда провожали ее до самых ворот.
— Ну и откопал же твой старик квартиру у черта на куличках! — восклицала одна.
— Вот ты и добралась до своего дворца! — кричала другая, сидевшая на велосипеде по-мальчишески,
раздвинув колени. Нажав на педаль, она увозила дальше примостившуюся на раме третью подружку.
Луиза входила в дом и, тряхнув непослушными волосами, мимоходом клевала каждого из нас в щеку и
тут же бросалась к проигрывателю.
Мишель. Он тоже учился искусству быть дерзким. Но если Луиза в своих дерзких выходках была
небрежной, непоследовательной, порывистой, а потому не теряла своего чистосердечия, Мишель продумывал
каждое свое дерзкое слово, отчего оно становилось особенно язвительным.
— Поступить на математический факультет! Чего ради? Чтобы стать преподавателем? У меня нет ни
малейшего желания погрязнуть в этом болоте. Лучше я поступлю в Политехническую школу.
Он перестал участвовать в общих детских играх. Он только “ставил опыты” в лаборатории. В лицее этот
несравненный всадник лихо гарцевал впереди всего класса. Свита Луизы охотно окружала его, когда он после
занятий возвращался домой. Ему льстило, что его считают красивым, сильным, умным, и он великодушно
позволял всем этим девицам восхищаться собой, не скрывая, что сам он считает их дурами. Друзей у него не
было. Он еще кое-как терпел около себя одного или двух соучеников, не блещущих особыми талантами, но не
лишенных хитрости, которые старались выудить у него всегда безупречно правильное решение трудной задачи;
он переписывался также с юношей из Лондона, придирчиво выискивая в его посланиях малейшие огрехи,
прежде чем ответить ему на чистейшем оксфордском языке, исписав четыре страницы уверенным мелким
почерком с высоко перечеркнутой буквой “t”.
Бруно. Оставался еще Бруно, который был всего на три года моложе своего брата, но рядом с ним
выглядел совсем ребенком. Стараясь походить на Мишеля, он подражал его степенности и даже его браваде,
пробовал говорить баском, грубил сестре, а иногда и тетке; случалось, что он осмеливался вести себя
вызывающе даже со своим высокочтимым братом.
Но никогда — с отцом. Не скажу, что я сумел приручить его: страх, уважение, привязанность — вот тот
треугольник, в центре которого я находился. Бруно не рассчитывал на особое к себе отношение с моей стороны.
Он не только не рассчитывал на него, он даже не помышлял о нем. Он все еще держался в стороне, но уже не
сторонился меня, как прежде, он словно выжидал чего-то. Это чувствовалось. В моих же устах даже буква “р” в
имени Бруно звучала теперь так мягко, что все окружающие говорили со мной о нем точно таким же тоном.
“Ваш любимец” — твердила Мамуля. А Мари, еще недавно называвшая его “маленький упрямец”, говорила
теперь просто “малыш” или же “твой младший”, а порой не без ехидства — “твой драгоценный Бруно”.
Следует отметить: этот ребенок никогда не давал мне повода гордиться собой. Общеизвестны градации,