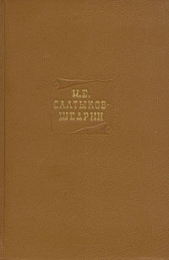Губернские очерки

Губернские очерки читать книгу онлайн
«Губернские очерки» – одно из первых произведений писателя, изображающее жизнь и нравы русского провинциального дворянства и чиновничества 50-х гг. XIX века, где он обличает жестокость, взяточничество, лицемерие, угодничество, царящие в чиновничьем мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Хочешь ко мне пойти? – спрашиваю я мальчика. Он вопросительно смотрит мне в глаза.
– Я тебе пряников дам, – продолжаю я.
– Мне что пряники! – говорит он, – я, пожалуй, и вино пью.
Такая откровенность и столь раннее развитие несколько смущают меня; но я дал себе слово провести этот вечер не одиноко и настойчиво преследую свою цель.
– Что ж, я и вина дам, – говорю я.
Мальчуган с минуту колеблется, но потом беспрекословно следует за мной.
Нас встречает Гриша, которому тоже, вероятно, скучно сидеть одному, потому что он злобно смотрит то на меня, то на мальчишку.
– Это еще кого привели? – сердито ворчит он.
Надо сказать, что я несколько трушу Гриши, во-первых, потому, что я человек чрезвычайно мягкий, а во-вторых, потому, что сам Гриша такой бесподобный и бескорыстный господин, что нельзя относиться к нему иначе, как с полным уважением. Уже дорогой я размышлял о том, как отзовется о моем поступке Гриша, и покушался даже бежать от моего спутника, но не сделал этого единственно по слабости моего характера.
– Есть у нас пряники, Гриша? – спрашиваю я.
– Какие у нас пряники! разве к нам мужики ходят? К. нам, сударь, большие господа ездят! – говорит он мне в виде поучения, как будто хочет дать мне почувствовать: "Эх ты, простота! не знаешь сам, кто у тебя бывает!"
– Ну, нет ли хоть яблок, винограду? – говорю я, несколько смущенный.
– Этому-то слюняю я винограду дам? – восклицает Гриша, вытаращив на меня глаза, и, перевернувшись всем корпусом, быстро удаляется в переднюю, причем сильно хлопает дверью.
Мальчуган смотрит на меня и тихонько посмеивается. Я нахожусь в замешательстве, но внутренно негодую на Гришу, который совсем уж в опеку меня взял. Я хочу идти в его комнату и строгостью достичь того, чего не мог достичь ласкою, но в это время он сам входит в гостиную с тарелкой в руках и с самым дерзким движением – не кладет, а как-то неприлично сует эту тарелку на стол. На ней оказывается большой кусок черного хлеба, посыпанный густым слоем соли.
– Будет с него, что и хлеба полопает, не велик барин! – говорит Гриша, – а то еще винограду выдумали!
– Однако принеси же, братец, яблок и винограду, если я этого требую, – говорю я твердым голосом и не роняя своего достоинства.
– Да и вина уж кстати подай, холоп! – прибавляет от себя мальчуган, который взлез между тем на диван и уселся на нем с ногами.
– Ах ты мозглец ты этакой! – кричит Гриша, взволнованный самоуверенным видом маленького наглеца, – ишь ты, скажите на милость! на диван с ногами въехал! брысь, слякоть!
Мне самому и смешно и досадно, но я решаюсь выдержать характер.
– Я тебе сказал, принеси винограду и яблок, – говорю я, возвышая голос.
– Ну, что же! – отвечает Гриша, – пожалуй! заставляйте меня всякой козявке служить! известно, вы господа, а мы холопы!
Я вижу, что самолюбие моего дядьки страдает, и спешу успокоить его.
– Да и ты с нами посидишь, Гриша; знаешь, завтра праздник какой!
Чело его при слове «праздник» действительно разглаживается, и я вижу, что прихоть моя будет исполнена.
Через пять минут являются на столе яблоки и виноград и бутылки тенерифа, того самого, от которого и жжет и першит в горле. Мальчуган, минуя сластей, наливает рюмку вина и залпом выпивает ее.
– Ишь шельмец какой! – замечает Гриша.
Я всматриваюсь между тем в мальчика. Лицо его очень подвижно и дышит сметкою и дерзостью; карие и, должно быть, очень зоркие глаза так быстры, что с первого взгляда кажутся разбегающимися во все стороны; он очень худощав, и все черты лица его весьма мелки и остры; самая кожа, тонкая и нежная, ясно говорит о чрезвычайной впечатлительности и восприимчивости мальчугана. Я вижу, что он начинает нравиться даже Грише, потому что тот, поглядывая на него, изредка проговаривается: "Ишь постреленок!", что доказывает, что он находится в хорошем расположении духа.
– Что ж ты не берешь яблок? – спрашиваю я.
– На что мне?.. Разве сестрам взять?
– А много у тебя сестер?
– А кто их знает? я не считал…
– Ишь пострел! – отзывается Гриша.
– Как же они теперь праздник встречают?
– Спят, чай… Намеднись тятька приговаривался, что свинью убить надо…
– Ну, а велики ли у тебя сестры?
– Одна есть большая, а другие – мелюзга.
– И мать у вас есть?
– Как же! этого добра где не водится! только, надо быть, тятенька ей скоро конец сделает… больно уж он ноне зашибаться зачал – это, пожалуй, и не ладно уж будет!
– За что ж он ее бьет?
– За что бьет! пришла – не так, и ушла – не так! вот и бьет!
Мне становится грустно; я думал угостить себя чем-нибудь патриархальным, и вдруг встретил такую раннюю испорченность. Мальчишка почти пьян, и Гриша начинает смотреть на него как на отличную для себя потеху.
– Вели закладывать поскорее лошадей, – говорю я Грише.
– А что-с! видно, наскучили мы вашему благородию? – спрашивает мальчуган.
– Скажи, пожалуйста, откуда ты выучился называть меня «благородием»? откуда перенял все эти романсы?
– Нёшто мы образованного опчества не знаем?
– Скажите на милость! тоже об образовании заговорил! – удивляется Гриша.
Через четверть часа докладывают, что лошади готовы, и я остаюсь один. Мне ужасно совестно перед самим собою, что я так дурно встретил великий праздник. Зато Гриша очень весел и беспрестанно смеется, приговаривая: "Ах ты постреленок этакой!" Я уверен, что в сердце его не осталось ни тени претензий на меня и что, напротив, он очень мне благодарен.
Я ложусь спать, но и во сне меня преследует мальчуган, и вместе с тем какой-то тайный голос говорит мне: "Слабоумный и праздный человек! ты праздность и вялость своего сердца принял за любовь к человеку, и с этими данными хочешь найти добро окрест себя! Пойми же наконец, что любовь милосердна и снисходительна, что она все прощает, все врачует, все очищает! Проникнись этою деятельною, разумною любовью, постигни, что в самом искаженном человеческом образе просвечивает подобие божие – и тогда, только тогда получишь ты право проникнуть в сокровенные глубины его души!"
Душа моя внезапно освежается; я чувствую, что дыханье ровно и легко вылетает из груди моей… "Господи! дай мне силы не быть праздным, не быть ленивым, не быть суетным!" – говорю я мысленно и просыпаюсь в то самое время, когда веселый день напоминает мне, что наступил «великий» праздник и что надобно скорее спешить к обедне.
«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
Скажите мне, отчего в эту ночь воздух всегда так тепел и тих, отчего в небе горят миллионы звезд, отчего природа одевается радостью, отчего сердце у меня словно саднит от полноты нахлынувшего вдруг веселия, отчего кровь приливает к горлу, и я чувствую, что меня как будто поднимает, как будто уносит какою-то невидимою волною?
"Христос воскрес!" – звучат колокола, вдруг загудевшие во всех углах города; "Христос воскрес!" – журчат ручьи, бегущие с горы в овраг; "Христос воскрес!" – говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями; "Христос воскрес!" – приветливо шепчут вечные огни, горящие в глубоком, темном небе; "Христос воскрес!" – откликается мне давно минувшее мое прошлое.
Я еще вчера явственно слышал, как жаворонок, только что прилетевший с юга, бойко и сладко пропел мне эту славную весть, от которой сердце мое всегда билось какою-то чуткою надеждой. Я еще вчера видел, как добрая купчиха Палагея Ивановна хлопотала и возилась, изготовляя несчетное множество куличей и пасх, окрашивая сотни яиц и запекая в тесте десятки окороков.
– Куда вам такое множество куличей, Палагея Ивановна? – спросил я ее.
– И, батюшка, все изойдет для "несчастненьких"! – отвечала она, набожно осеняя себя крестным знамением.
Ужасно люблю я Палагею Ивановну. Это именно почтеннейшая женщина! «Несчастненькими» она называет арестантов и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтоб как-нибудь усладить тесноту и суровость их заключения. Она не спрашивает, кто этот арестант, которому рука ее подает милостыню Христовым именем: разбойник ли он, вор или просто «прикосновенный». В глазах ее все они просто «несчастненькие», и вот каждый воскресный день отправляются из ее дома целые вязки калачей, пуды говядины или рыбы, и «несчастненькие» благословляют имя Палагеи Ивановны, зовут ее «матушкой» и «кормилицей»… И я того мнения, что если кто-нибудь на сем свете заслужил царствие небесное, то, конечно, Палагея Ивановна больше всех.