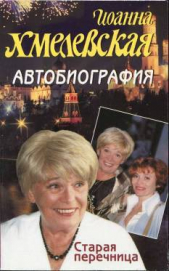Игра с огнем

Игра с огнем читать книгу онлайн
Когда смотришь на портрет Марии Пуймановой, представляешь себе ее облик, полный удивительно женственного обаяния, — с трудом верится, что перед тобой автор одной из самых мужественных книг XX века.
Ни ее изящные ранние рассказы, ни многочисленные критические эссе, ни психологические повести как будто не предвещали эпического размаха трилогии «Люди на перепутье» (1937), «Игра с огнем», (1948) и «Жизнь против смерти» (1952). А между тем трилогия — это, несомненно, своеобразный итог жизненного и творческого пути писательницы.
Трилогия Пуймановой не только принадлежит к вершинным достижениям чешского романа, она прочно вошла в фонд социалистической классики.
Иллюстрации П. ПинкисевичаВнимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это Гашлер, [66] — зашептали вокруг Неллы.
Действительно, его все знают, вся республика распевает его градчанские и старопражские песенки. Но как попал эстрадный певец на балкон президентской канцелярии? Все смешалось. Никто ничему не удивлялся. Вон там, у статуи святого Георгия, стояла заплаканная Власта Тихая, из-за которой Нелла чуть не потеряла сына, теперь она — пани Кунешова. Зажженная спичка на мгновение озарила лицо Власты, и Нелла увидела, как та нервно закурила сигарету; но как только погас огонек, она тотчас забыла об актрисе. Здесь собрались продавцы, продавщицы и швеи, малозаметные в городе люди, мелкие торговцы и служащие; они позакрывали магазины, опустили железные шторы и, переполненные роковой новостью, выбежали на улицы. Интеллигенция — студенты, учительницы — терялась в этой толпе. Это та самая Большая Прага, у которой такие разные интересы днем. Люди, конечно, мало что знали об античной трагедии. Гашлер, любимый поэт пражских улиц, певец и патриот, военные песни которого когда-то помогали бороться с Австрией, попытался говорить искренне взволнованным голосом с публикой, которая его любила и которая шла за ним.
— Война при таких обстоятельствах была бы самоубийством! — бросил он в толпу.
А рты открылись и закричали в один голос:
— Самоубийства! Хотим самоубийства! — загремело между Градом и храмом святого Вита. Это шоферы и поварята, официанты, модистки и учителя; это нация, готовая на самопожертвование, давала обет погибнуть. Ведь они любили свободу. Мурашки пробегали по спинам.
— А где президент? — раздался чей-то сердитый голос. — Почему он не показывается?
— Вы его не звали, — ответил генерал Сыровы, которого опять вытребовали на балкон, и ушел в таинственное нутро Града.
Кто там был в эту страшную ночь? Направо от балкона, в освещенном окне этажом выше, за занавеской появился чей-то силуэт. Человек, нервно потирая руки, точно убеждаясь в своей твердости и требуя ее от остальных, поклонился. Некоторые громко с ним поздоровались; но тут же начали свистеть и кричать. Легкая тень человека отошла от окна. Он исчез.
Митя, спотыкаясь, плелся совсем сонный. Нелла то ли донесла, то ли доволокла его до дому, сама падая от усталости.
Митю раздевали в постели, мама сняла с него один башмачок, папа — другой. Большие мальчики разуваются сами, но у него не хватило воли поднять голову. «Я не сплю», — протестовал он. И вдруг, точно кто его пощекотал, он тихонько засмеялся. Перед глазами у него возникло гигантское белое нефтехранилище, и около него темным силуэтом на солнце — часовой с винтовкой. Митя отлично видел его, как в волшебном фонаре.
— Знаешь, папа, — сказал он с закрытыми глазами и протянул руку, — нам на помощь придут красноармейцы!
И Митя блаженно заснул.
НАРОД С ЗАВОДОВ И ФАБРИК
На следующее утро рабочие Колбенки прекратили работу. Она просто валилась из рук. Люди, стоявшие у фрезера, у гидравлического пресса или револьверного станка, не находили себе места. У печей сказали: «На Гитлера работать не станем»; у станков собралась сходка, а там пошло и пошло. Начали, конечно, литейщики — тот, кто имеет дело с огнем и металлом, шутить не любит. Забастовала сернистая сталь, а следом и кузница; оттуда стачка перекатилась в токарную; стоило остановиться одному цеху, как к нему тотчас же присоединялись остальные. Вышли из цехов и кузнецы, и конструкторы, и шлифовальщики, и столяры, и механики. У модельной перед ними заперли дверь. Сначала там ничего и слышать не хотели. Но потом пошла и модельная. Пришли все к центральному поворотному кругу, а председатель заводского комитета не согласился с рабочими.
— Куда полетели? — сказал он. — С ума вы, что ли, сошли?
Начальник смены не хотел выдать ключи от главных ворот.
— Плюньте вы на политику, — уговаривал он, — все равно вы ничего не знаете.
— Ключ будет здесь, — ответили ему, — или мы взломаем ворота. Да и ночные смены на работу не выйдут, ручаемся. Пускай мартены гаснут, нам теперь все равно.
Ключ сразу нашелся, все тронулись дальше. Если металлисты задумали что, их никакое начальство не остановит.
Привратник выглянул из своего окошечка.
— Не ходите, — закричал он вслед им, — не валяйте дурака! На Балабенке вас жандармы ждут.
Он покривил душой. Их хотели вернуть. Но не так-то легко провести рабочих. Аэровка, где в конструкторском отделе работал Тоник, вышла вместе с Колбенкой, присоединился и завод Сименса; рабочие выровняли шаг и отправились по Королевскому проспекту — обычным путем своих первомайских демонстраций, по огромной артерии, которая проходит по трем рабочим районам и связывает Высочаны, Либень и Карлин, эти руки Большой Праги, с ее историческим сердцем — Старым Местом.
Поредел дым на Арфе; там тоже бросили работу. Кочегарка столицы и лакокрасочные заводы, выдыхающие резкие химические запахи и разноцветный дым, — Тебеска и Шмолковна — оставили работу, выключили станки и стали. На ноги поднялась вся Арфа, а за ней следом Глоубетин, Филипка — ухо мира, Тунгсрамка — глаза Праги, Сана — миллионы кубиков мыла — все вышли на улицу. Чешско-моравский машиностроительный завод в Либени, этот гигантский, как мамонт, родильный дом машин, как и братская Колбенка, перестал метаться в судорогах и кричать; там наступила тишина. Мужчины высыпали из цехов, женщины — из домов, фабрики и рабочие кварталы отправились в поход к сердцу республики — к парламенту. По пути к ним присоединились более мелкие предприятия; и все это текло к классическому месту сражений, на Балабенку. Трамваи давно перестали ходить. Королевский проспект был переполнен. Люди останавливались и смотрели вслед шествию.
Мелкие торговцы опускали шторы, запирали лавочки и тоже присоединялись к рабочим. И старая бабка, вышедшая с мелочью в лавочку за дрожжами, тоже присоединилась к ним. Учащиеся из общежития порывались было пойти со всеми. Но двери заперли на замок. Все ученики торчали у окон — голова к голове.

Рабочие шли. Они все думали одинаково и знали, чего хотят. Свергнуть правительство, которое сдалось без боя, и защитить республику, если на нее нападет Гитлер. Родная страна не была для них ласковой матерью. Она была для них скорее вроде мачехи из сказок о Золотой прялке или о Золушке. Она прятала куски получше для своих любимчиков, сынков крупных землевладельцев, и отталкивала безземельных. Во времена безработицы у многих не было крова над головой. Они жили в каменоломнях, в заброшенных речных судах, в старых вагонах. Отец родины [68] когда-то дал своим беднякам построить Голодную стену. А мать-республика не слишком ломала себе голову над тем, как им помочь. Вместо работы она отделывалась нищенской подачкой. На нее нельзя было ни жить, ни умереть. До сих пор в память об этих тощих годах существуют поселки «Нужда» и «На крейцер». Но как бы то ни было, кровь — не вода, мать — это мать, это была их родина, и сейчас ей угрожала опасность. Владельцы шахт и металлургических комбинатов, сахарных и винокуренных заводов испугались и отступили. Обездоленные же, гнувшие на них спину, осмелились защищать родную страну.
У Дома инвалидов встретился военный грузовик, солдаты, сидевшие в нем, приветственно махали: «Мы с вами! С народом!»
И поселки «Нужда» и «На крейцер» тянулись на помощь республике, которая когда-то стреляла по ним, когда они объявили, что не хотят умирать с голоду.