Том 4. Травой не порастет ; Защищая жизнь
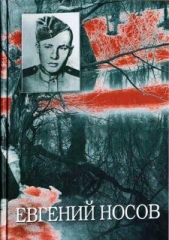
Том 4. Травой не порастет ; Защищая жизнь читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да и то сказать: ежели на передовой более-менее спокойно, если фронт не двинулся с места, огневик всегда найдет время, как тогда говорили, покемарить. Положенные укрытия отрыты, снаряды много раз перебраны и протерты, слоняться по огневой на виду у противника не дозволялось, а к тому же, если командир не буквоед, не уставник, не дергает без насущной потребности, то солдат знай себе суркует, сурком отсыпается в норе, набирается сил перед боями. Разумеется, дрыхнет он в пересменке между несением дозорной службы у орудий.
У нашего же Усова пересменок не было, никто его не подменял и не заменял. Еще затемно выползал он из своей землянки-одиночки, где одновременно хранились и батарейные съестные припасы, зябко закуривал в рукав, разминал поясницу, прислушивался к передовой и, присев перед топкой, начинал набивать печь с вечера припасенными дровами. Тут, при растопке, тоже были свои тонкости: надо было уметь так топить, чтобы ночью не искрило, а днем не дымило, иначе не миновать вражеского «гостинца»… По этой же причине никаких фонарей зажигать не полагалось, и Усов на ощупь принимался колдовать в кромешной темноте: развязывал какие-то одному ему известные сумочки и мешочки, что-то выскребал из жестяных банок большущим тесаком, который всегда болтался на поясе в брезентовых ножнах, что-то крошил на пустом снарядном ящике, что-то бросал и сыпал в черное чрево котла.
Когда же батарея занимала особо танкоопасный рубеж и тщательно затаивалась, зарывалась в землю, жизнь на огневых переключалась на ночной распорядок. Нас кормили только с наступлением сумерек, и часы ужина превращались в завтрак, полночь — в обед, а где-то перед рассветом мы получали свой ужин, который чаще всего заменялся сухим пайком — сухарями и тушенкой. В такие-то напряженные времена молчаливый и угрюмоватый Усов всю ночь напролет топтался в своей кухонной яме, заполненной дымом, который валил из коротенькой трубы, задышливой еще и потому, что была она увешана самодельными пламегасителями, смастеренными Усовым из подручного материала. И слышался из этой ямы его надсадный застарелый кашель, когда он, пав на колени, в который раз начинал дуть и размахивать фартуком перед малиново-мерклым поддувалом.
После каждой раздачи надо было выскрести котел, а после обеда — сразу два: из-под супа и каши, где-то разжиться дровами, потому как не всегда останавливались в лесу, бывало и так, что окрест не встретишь ни бубочки, ни былочки. Да и вода не текла из крана, пойди разыщи ее да потаскайся, а надо и сварить, и посуду помыть, и накипятить заместо чая — в зимнее время и кипятку рады. Словом, тут не до спанья, тут повертеться надо, чтобы при любых обстоятельствах, в дождь и завируху, при любых обстрелах трижды в сутки одному накормить полсотни людей, составлявших батарею.
— Опять пшенка! — иногда не выдерживал кто-нибудь.
Да, пшенная каша, пшенный кулеш, заправленные комбижиром, всем осточертели до смерти. Иногда их перебивали ячневой крупой, горохом, реже — перловкой, прозванной шрапнелью. Картошка же на второе считалась лакомством. Даже летом солдат в основном питался бездушными концентратами. Теперь, спустя столько лет понимаешь, что в тех условиях снабдить фронт даже таким незамысловатым продуктом, как картошка, было делом нешуточным. Да и где ее хранить, скажем, в зимнее время или когда фронт приходил в движение? А уж о всяких прочих овощах и вовсе говорить не приходится. Тогда было не до деликатесов, управляйся только подвозить боеприпасы.
И все же Усов иногда изловчался, нет-нет да и придумывал что-нибудь. В короткие передышки между стряпней, перекинув через плечо автомат и пустой мешок, зимой он обхаживал выгоревшие дворища окрестных деревень и в уцелевших погребах находил то картошку, то квашеную капусту, то еще какую редкую для нас снедь, оставленную погорельцами. С наступлением же весны рвал по оврагам и пустырям молодую крапиву, мелко рубил ее и добавлял ко всякому приварку, взбадривая надоевший кондер первой вешней зеленью, которая и от цинги, сказывали, помогала. Вслед за крапивой в дело шла снытка, потом Усов умудрялся нарывать по луговинам чуть ли не по полмешка щавеля, и тогда еще издали от кухни будоражаще веяло зелеными щами, в которых помимо перловки находили и невесть откуда взявшийся лучок, и палочками поджаренную картошку.
Однажды Усов набрел на осиротевшую грядку с огурцами, и надо было видеть, как по-детски радовались солдаты, как бережно перекидывали в своих огрубелых руках, как упоенно внюхивались в полузабытую огородину, когда Усов перед ужином вдруг выдал каждому по свежему огурцу.
— Ну, братва, сегодня Усов отколол номер! Вот это уважил!
— Отходи, отходи! — неподкупно покрикивал тот на солдат, обступивших мешок с огурцами.
— Слушай, Усов, обменяй-ка. Глянь, какой мне желтый достался.
— Отходи-и!
Кажется, я никогда не слышал от него никаких иных слов, кроме этого «отходи», но и в нем, единственном, было столько всяких оттенков, что не трудно было уяснить, в каком настроении сегодня повар. В тот огуречный день Усов, хотя и покрикивал по-прежнему строго, но с заметной ноткой счастливого отца обширного семейства.
Даже такие мелочи для солдата оборачивались нечаянной радостью и праздничным настроением среди нескончаемых тягот окопной жизни.
Помимо всех этих поварских сюрпризов Усов запасал еще и всякие травы, тут же развешивал их в пучках для просушки, и при случае всегда можно было выпросить у него целебного взвару и от живота, и от зубной маеты.
Чувствую, что читатель ждет от меня под конец какой-нибудь неожиданности, какого-либо чрезвычайного случая, который сделал бы в его глазах Усова героем.
Нет, друзья мои, Усов так-таки ничего и не совершил героического, по крайней мере, до той поры, пока меня не ранило под Кёнигсбергом. Наверно, он дослужил до самого конца войны, до последнего ее дня, который мы сейчас всенародно празднуем. И последний свой кулеш заварил на воде из реки Шпрее, до того отчерпав многие сотни ведер из Днепра, Вислы и Одера. И, надо думать, благополучно вернулся домой, на курскую землю. Скорее всего, без орденов и повышения в звании…
Как-то наш старшина сказал одному ворчливому командиру орудия, не пожелавшему выделить бойца что-то там помочь по кухне. Он сказал так: «Кухня, если на то пошло, все равно что лишняя пушка на батарее». И старшина был прав. Ибо в залпах наших орудий была заложена посильная доля молчаливого и негромкого и его, Усова, мужества, не требовавшего за это никаких наград.
Пусть же сыновья и внуки его не стыдятся того, что их отец и дед прошел войну до самого ее логова безвестным фронтовым кашеваром!
1975
Синее перо Ватолина
На востоке отдаленно громыхало, будто ненастьем трепало железную кровлю. А по ночам в той стороне взметывались огненные сполохи, отчего разломы в плотных февральских тучах наливались багровым ознобом.
На пятые сутки перекатный гул усилился настолько, что на Подкопаньских выселках принялись вздрагивать оконные шибки, а на чердаке Марьиной избы что-то обрушилось и глухо покатилось по печным колодезям.
— Ма-а! — тревожно позвал Марью проснувшийся Николка.— Чтой-то?
— Должно, старый кирпич в трубе осыпался.
— Опять война к нам идет, да, мам?
— Это наши идут,— уточнила Марья.
В избе было темно, не светилась даже иконка,— кончилось лампадное масло, и только квадрат заиндевелого окна проступал неясной матовой мглой.
— И папка идет? — сквозь страх потеплел голосом Николка.
Марья не ответила, не знала, идет он или давно отходился, а, приподнявшись на локте, так что стали видны ее угловатые очертания против сумеречного оконца, перекрестила себя щепотью, после чего так же осенила Николку и спавшую рядом Любашку, никогда не видевшую отца.
Потом она, монотонно раскачиваясь, наплескивая на плоскую грудь распущенными волосами, торопко шептала что-то себе одной и наконец, оправив подушку, улеглась опять с глубоким провальным выдохом.

























