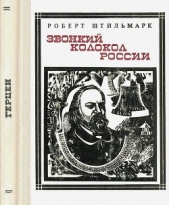Былое и думы, том 1

Былое и думы, том 1 читать книгу онлайн
Почти шестнадцать лет Герцен работал над своим главным произведением — автобиографическим романом "Былое и думы". Сам автор называл эту книгу исповедью, "пo поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум". Но в действительности, Герцен, продемонстрировав художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины XIX века.
Вступительная статья "Роман о русском революционере и мыслителе" Я. Эльсберга.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спустя несколько дней я гулял по пустынному бульвару, которым оканчивается в одну сторону Пермь; это было во вторую половину мая, молодой лист развертывался, березы цвели (помнится, вся аллея была березовая), — и никем никого. Провинциалы наши не любят платонических гуляний. Долго бродя, я увидел наконец по другую сторону бульвара, то есть на поле, какого-то человека, гербаризировавшего или просто рвавшего однообразные и скудные цветы того края. Когда он поднял голову, я узнал Цехановича и подошел к нему.
Впоследствии я много видел мучеников польского дела; четьи-минеи польской борьбы чрезвычайно богаты, — Цеханович был первый. Когда он мне рассказал, как их преследовали заплечные мастера в генерал-адъютантских мундирах, эти кулаки, которыми дрался рассвирепелый деспот Зимнего дворца, — жалки показались мне тогда наши невзгоды, наша тюрьма и наше следствие.
В Вильне был в то время начальником, со стороны победоносного неприятеля, тот знаменитый ренегат Муравьев, который обессмертил себя историческим изречением, что "он принадлежит не к тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, которые вешают". Для узкого мстительного взгляда Николая люди раздражительного властолюбия и грубой беспощадности были всего пригоднее, по крайней мере всего симпатичнее.
Генералы, сидевшие в застенке и мучившие эмиссаров, их знакомых, знакомых их знакомых, обращались с арестантами, как мерзавцы, лишенные всякого воспитания, Всякого чувства деликатности и притом очень хорошо знавшие, что все их действия покрыты солдатской шинелью Николая, облитой и польской кровью мучеников и слезами польских матерей… Еще эта страстная неделя целого народа ждет своего Луки или Матфия… Но пусть они знают: один палач за другим будет выведен к позорному столбу истории и оставит там свое имя. Это будет портретная галерея николаевского времени в pendant галереи полководцев 1812 года.
Муравьев говорил арестантам "ты" и ругался площадными словами. Раз он до того разъярился, что подошел к Цехановичу и хотел его взять за грудь, а может, и ударить — встретил взгляд скованного арестанта, сконфузился и продолжал другим тоном.
Я догадывался, каков должен был быть этот взгляд; рассказывая мне года через три после события эту историю, глаза Цехановича горели, и жилы налились у него на лбу и на перекошенной шее его.
— Что же бы вы сделали в цепях?
— Я разорвал бы его зубами, я своим черепом, я цепями избил бы его, сказал он дрожа.
Цеханович сначала был сослан в Верхотурье, один из дальнейших городов Пермской губернии, потерянный в Уральских горах, занесенный снегом и так стоящий вне всяких дорог, что зимой почти нет никакого сообщения. Разумеется, что жить в Верхотурье хуже, чем в Омске или Красноярске. Совершенно одинокий, Цеханович занимался там естественными науками, собирал скудную флору Уральских гор, наконец получил дозволение перебраться в Пермь; и это уже для него было улучшение: снова услышал он звуки своего языка, встретился с товарищами по несчастью. Жена его, оставшаяся в Литве, писала к нему, что она отправится к нему пешком из Вилен-ской губернии… Он ждал ее.
Когда меня перевели так неожиданно в Вятку, я пошел проститься с Цехановичем. Небольшая комната, в которой он жил, была почти совсем пуста; небольшой старый чемоданчик стоял возле скудной постели, деревянный стол и один стул составляли всю мебель, — на меня пахнуло моей крутицкой кельей.
Весть о моем отъезде огорчила его, но он так привык к лишениям, что через минуту, почти светло улыбнувшись, сказал мне:
— Вот за то-то я и люблю природу: ее никак не отнимешь, где бы человек ни был.
Мне хотелось оставить ему что-нибудь на память, я снял небольшую запонку с рубашки и просил его принять ее.
— К моей рубашке она не идет, — сказал он мне, — но запонку вашу я сохраню до конца жизни и наряжусь в нее на своих похоронах.
Потом он задумался и вдруг быстро начал рыться в чемодане. Достал небольшой мешочек, вынул из него железную цепочку, сделанную особым образом, оторвав от нее несколько звеньев, подал мне с словами:
— Цепочка эта мне очень дорога, с ней связаны святейшие воспоминания иного времени; все я вам не дам, а возьмите эти кольцы. Не думал, что я, изгнанник из Литвы, подарю их русскому изгнаннику,
Я обнял его и простился.
– Когда вы едете? — спросил он. — Завтра утром, но я вас не зову, у меня уже на квартире ждет бессменно жандарм.
— Итак, добрый путь вам, будьте счастливее меня.
На другой день с девяти часов утра полицмейстер был уже налицо в моей квартире и торопил меня. Пермский жандарм, гораздо более ручной, чем крутицкий, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что он будет 350 верст пьян, работал около коляски. Все было готово; i я нечаянно взглянул на улицу — идет мимо Цеханович, я — бросился к окну.
— Ну, слава богу, — сказал он, — я вот четвертый раз прохожу, 'чтоб проститься с вами хоть издали, но вы все не видали.
Глазами, полными слез, поблагодарил я его. Это нежное, женское внимание глубоко тронуло меня; без этой встречи мне нечего было бы и пожалеть в Перми!
…На другой день после отъезда из Перми с рассвета полил дождь сильный, беспрерывный, как бывает в лесистых местах, и продолжался весь день; часа в два мы приехали в беднейшую вятскую деревню. Станционного дома не было: вотяки (безграмотные) справляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись, две ли печати, или одна, кричали "айда, айда!" и запрягали лошадей, разумеется, вдвое скорее, чем бы это сделалось при смотрителе. Мне хотелось обсушиться, обогреться, съесть что-нибудь. Пермский жандарм согласился на мое предложение часа два отдохнуть. Все это было сделано, подъезжая к деревне. Когда же я взошел в избу, душную, черную, и узнал, что решительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нету верст пять, я было раскаялся и хотел спросить лошадей.
Пока я думал, ехать или не ехать, взошел солдат и отрапортовал мне, что этапный офицер прислал меня звать на чашку чая.
— С большим удовольствием, где твой офицер?
— Возле, в избе, ваше благородие! — и солдат выделал известное па налево кру — ом.
Я пошел вслед за ним.
Пожилых лет, небольшой ростом офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, страха перед начальством, встретил меня со всем радушием мертвящей скуки. Это был один из тех недальних, добродушных служак, тянувший лет двадцать пять свою лямку и затянувшийся, без рассуждений, без повышений, в том роде, как служат старые лошади, полагая, вероятно, что так и надобно на рассвете надеть хомут и что-нибудь тащить.,
— Кого и куда вы ведете?
— И не спрашивайте, индо сердце надрывается; ну, да про то знают першие, наше дело исполнять приказания, не мы в ответе; а по-человеческому некрасиво.
— Да в чем дело-то?
— Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают — не знаю. Сначала было их велели гнать в Пермь, да вышла перемена, гоним в Казань. Я их принял верст за. сто; офицер, что сдавал, говорил: "Беда да и только, треть осталась на дороге" (и офицер показал пальцем в землю). Половина не дойдет до назначения, — прибавил он.
— Повальные болезни, что ли? — спросил я, потрясенный до внутренности.
— Нет, не то, чтоб повальные, а так, мрут, как мухи; жиденок, знаете, эдакой чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари — опять чужие люди, ни отца, ни матери, "и баловства; ну, покашляет, покашляет да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать?
Я молчал,
— Вы когда выступаете?
— Да пора бы давно, дождь был уже больно силен… Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать!
Привели малюток и построили в правильный фронт; это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал, — бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще кой-как держались, но малютки восьми, десяти лет… Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст.