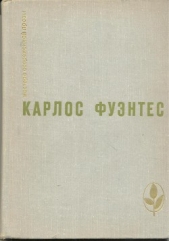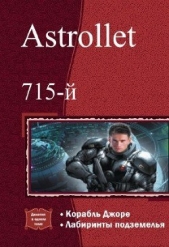Смерть Артемио Круса
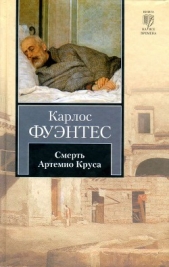
Смерть Артемио Круса читать книгу онлайн
Одно из величайших литературных произведений XX века. Один из самых гениальных, многослойных, многоуровневых романов в истории щедрой талантами латиноамериканской прозы. Сколько лицу революции? И правда ли, что больше всего повезло тем ее героям, которые успели вовремя погибнуть? Артемио Крус, соратник Панчо Вильи, умирает, овеянный славой — и забытый. И вместе с ним умирает и эпоха, и душа этой эпохи… Нет больше героев «времени перемен». И нет места в современном, спокойном мире тем, кто не успел красиво умереть на полях сражений…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О трагических событиях ей рассказал Атанасио — припоминает Людивиния в эти жаркие полуденные часы, и с тех пор она уже не выходила из комнаты, притащив сюда свои лучшие вещи, подсвечники из столовой, кованые сундуки, самые дорогие картины. И, будучи натурой романтической, стала ждать скорой смерти, но смерть запаздывала вот уже на тридцать пять лет, что в общем-то уже не имело значения для девяностотрехлетней женщины, появившейся на свет в год первой сумятицы, когда в церковном приходе Долорес слышались вопли и свист камней, а двери в доме роженицы были со страху заперты на все засовы. Календари уже не существовали для нее, и этот, 1903 год был лишь продолжением времени, которое глумилось над нею и не обрывалось для нее после гибели мужа. Для нее словно и не существовал пожар, который г. 1868 году охватил дом и затух у самых дверей не запертой спальни. Оба сына — их было двое, но любила она только Атанасио — кричали ей, чтобы она спасалась, но Людивиния, кашляя от густого дыма, ползущего из всех щелей, нагромождала стулья и столы у двери. Она никого не хотела видеть и терпела только одну индеанку, потому что кто-то должен был приносить еду и чинить черные одежды. Старуха ничего не хотела знать и жила лишь воспоминаниями о былом. Среди этих четырех стен она утратила всякое ощущение реальности, думая лишь о своем вдовстве, безвозвратном прошлом и с некоторых пор — об этом мальчишке, который постоянно бегал по пятам за каким-то незнакомым мулатом.
— Индеанка, принеси мне кувшин воды.
Но вместо Баракой в дверях показался желтый призрак. Людивиния вскрикнула и забилась в глубь постели; ее ввалившиеся глаза раскрылись от ужаса, чешуйчатая маска лица еще больше сжалась. Мужчина остановился у порога и протянул дрожащую руку.
— Я — Педро…
Людивиния не поняла. От испуга она не могла вымолвить ни слова, но ее руки пытались подняться, заклинать, защищаться в ворохе черных тряпок. А бледное привидение надвигалось, хватая ртом воздух:
— Я… Педро… О-ох… — бормотал человек, потирая голый грязный подбородок. — Я — Педро…
У него нервно дергались веки. Застывшая от ужаса старуха не понимала, что говорит этот заспанный, пропахший потом и алкоголем субъект:
— О-ох… все пропало. Вы знаете?.. Все… к черту… А теперь… — всхлипнул он без слез, — забирают и негра. Но вы ведь ничего не знаете, мама…
— Атанасио…
— О-ох, нет… Я — Педро. — Пьяница рухнул в качалку и вытянул ноги, словно добрался наконец до своего места. — Негра уводят… который нас кормит… вас и меня…
— Нет. Мулат. Мулат и мальчишка…
Людивиния отвечала, но не смотрела на призрак, заговоривший с нею, потому что не могло быть тела у голоса, ворвавшегося в этот запретный склеп.
— Ну, мулат. И мальчишка… Все равно.
— Он иногда бегает, вон там. Я его видела. Я довольна. Мальчишка.
— Приходил вербовщик, известил меня… Разбудил… Разбудил меня в самую жару… Забирают негра… Что нам теперь делать?
— Забирают негра? В усадьбе полным-полно негров. Полковник говорит, что они дешевые и на работу спорые. Но если этот тебе так нравится, отдай за него шесть реалов.
И они умолкли, соляные статуи, думая, о чем же они станут говорить потом, когда будет уже слишком поздно, когда мальчик уже не будет при них. Людивиния скосила глаза на того, с чьим присутствием не могла смириться: кто этот человек, который, видно, специально вытащил из сундуков свою лучшую одежду и нарядился, чтобы преступить запретный порог? Да, манишка из голландского полотна, вся в пятнах плесени; узкие панталоны, слишком узкие, слишком обтягивающие небольшой живот на истощенном теле. Старинная одежда не терпела пошлой обыденности с ее запахом пота, курева и алкоголя; да и бесцветные глаза не отвечали требованиям одежды — не выражали самодовольства и презрения, глаза бесхитростного пьяницы, более пятнадцати лет не общавшегося с людьми.
Ах, — вздохнула Людивиния в своей развороченной постели, смирившись наконец с тем, что у голоса есть лицо, — это не Атанасио, тот был мужчиной, хотя и казался точной копией своей матери, моей копией, но в мужском обличье, этот же — настоящая баба, только с бородой и в манишке, грезила наяву старуха, этот не похож на свою мать в мужском обличье, на Атанасио, и поэтому она любила только того сына, Атанасио, а не этого, она вздохнула, — того, который всегда жил здесь, врос в землю, доставшуюся им, а не этого, который даже во время разразившейся катастрофы хотел остаться там, в столице, во дворцах, жить так, как им уже не подобало. Она понимала: покуда все принадлежало им, они имели право навязывать свое присутствие всей стране; когда же им более ничего не принадлежит — она неуверенно качнула головой, — их место в этих четырех стенах.
Мать и сын смотрели друг на друга, разделенные стеной воскресшего прошлого.
(«- Ты пришел сказать мне, что у нас уже нет ни земель, ни величия; что другие так же взяли у нас все, как мы когда-то взяли все у исконных, у настоящих хозяев? Ты пришел поведать мне то, что я почувствовала давно — нутром своим, с первой же ночи своей супружеской жизни?
— Я пришел, воспользовавшись предлогом. Я пришел, потому что больше не хочу быть один.
— Я хотела бы припомнить тебя маленьким. Я любила тебя тогда, потому что молодая мать любит всех своих детей. С возрастом мы умнеем. Никого нельзя любить без причины. Родная кровь — не причина. Единственная причина — кровь, дорогая тебе без причины.
— Я хотел быть сильным, как мой брат. Я держал в строгости мулата и мальчишку; я запретил им подходить к большому дому. Так делал и Атанасио, помните? Но тогда было много работников. А теперь остались только мулат и мальчик. Мулат уходит.
— Ты остался один. Пришел ко мне, чтобы не быть одному. Думаешь, что я одинока; вижу это по твоим жалостливым глазам. Глуп, как всегда, и слаб. Ты не мой сын, Атанасио ни у кого не искал сострадания. Ты — это я, та, что была, когда вышла замуж. Сейчас — нет, сейчас я уже не та. Сейчас вся моя долгая жизнь со мной, это жизнь — со мной, а не старость. А ты — стар, ибо думаешь, что все кончилось, если ты поседел, стал пить, утратил волю. Вижу я тебя, насквозь вижу, слизняк! Ты — тот самый, что ездил с нами в горы, в столицу; тот самый, что думал: наша власть досталась нам даром, для того, чтоб кутить и пьянствовать, а не укреплять ее, поддерживать, пользоваться ею как кнутом; ты думал: наша сила навек нам дана и заботиться не о чем, а потому можно оставаться там, наверху, без нашей поддержки, когда мы снова спустились на эти жаркие земли, к этому источнику жизни, в этот ад, откуда мы вышли и куда опять ввергнуты… Запах! Есть запах более сильный, чем конский пот, аромат фруктов и пороховая вонь… Знаешь ли ты запах любви мужчины и женщины? Вот как пахнет здесь земля — влажная, горячая, а ты этого никогда не знал… Слышишь? Я тебя нянчила, когда ты родился, и кормила тебя, и говорила тебе: «Мой сын, мой», думала только о том мгновении, когда твой отец зачал тебя, ослепленный любовью, которая кипела не для того, чтоб породить тебя, а чтобы дать мне наслаждение; и память осталась, а ты исчез… Послушай, там, за окном…
— Почему вы ни слова не говорите, а только смотрите на меня? Ну ладно…ладно… Молчите. Все же это лучше — смотреть на вас здесь; лучше, чем валяться на голой кровати и глядеть в потолок по ночам…
— Ты ищешь живую душу? А этот мальчик, там, за окном? Разве он не живой? Ты, видно, думаешь, что я ничего не знаю, ничего отсюда не вижу… Будто я не могу чувствовать, что здесь рядом растет плоть от моей плоти, их воплощение, их, Иренео и Атанасио, еще один Менчака, еще один мужчина, такой, как они, там, за окном, послушай… Конечно, он мой, раз ты его не ищешь… Зов крови слышен издалека…»)
— Лунеро, — сказал мальчик, проснувшись, и увидел мулата, расплатившегося в изнеможении на сырой земле, — я хочу войти в большой дом.
Потом, когда все было кончено, старая Людивиния презрела свое затворничество и заковыляла, как бескрылая ворона, крича в заросшие папоротником аллеи, устремив глаза в заросли, подняв их к сьерре, словно слепая в этой непривычной ночной темноте, после своей кельи с вечно горящими свечами. Она простирала руки в поисках человека, которого искала за каждой ветвью, хлеставшей ее по лицу — маске в мертвенно-синих жилках. Вдыхала близость земли и кричала своим глухим голосом забытые и только что узнанные имена, кусала от ярости свои бескровные руки, ибо в ее груди что-то — годы, память, прошлое, составлявшее всю ее жизнь, — говорило ей, что существует жизнь за пределом ее воспоминаний, что можно и любить родное существо, кого-то, кто не погиб со смертью Иренео и Атанасио. Но сейчас, глядя на сеньора Педрито, в спальне, которую она не покидала тридцать пять лет, Людивиния связывала все вокруг живущее только с миром прошлого. Сеньор Педрито потер голый подбородок и снова заговорил, теперь уже вслух: