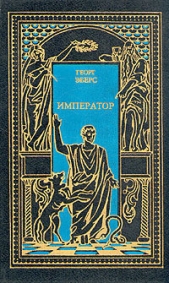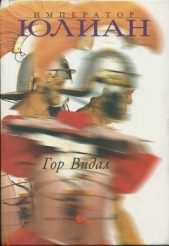Сыновья

Сыновья читать книгу онлайн
Второй том трилогии об Иосифе Флавии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Да, Гомер, – говорит он. – У Гомера много чепухи. Но он понимает, что такое красота и мудрость. Пусть Одиссей убивает всех женихов [71], насильников, людей действия, но он щадит поэта. Они знают, что такое писатель, греки.
Что он говорит? Какое мальчику до этого дело? Что Павел подумает о нем? И все-таки он продолжает некоторое время в том же роде. Наконец он умолкает, просто стоит перед мальчиком и смотрит на него. А между тем уже наступили сумерки, ему следовало бы в самом деле подумать о возвращении домой. Но он все-таки стоит и смотрит на сына.
Он ждет до тех пор, пока Павел сам не прекращает свидание. Уже темнеет, замечает он, ему пора домой. Тогда Иосиф наконец делает над собой усилие и говорит торопливо и довольно бессвязно:
– Да, совершенно верно, и мой экипаж ждет внизу.
Потом мальчик уезжает.
Иосиф, хотя и это тоже неправильно, продолжает стоять и смотреть ему вслед, пока тот не скрывается из виду. Затем, слегка спотыкаясь, охваченный смятением, возвращается на дорогу.
Симон, послав полковнику Лукриону столь ощутимое чихательное знаменье, считал вопрос о взаимоотношениях с полковником исчерпанным. Симон-Яники не был философом. Ему хотелось показать полковнику, а еще больше своему товарищу Константину, что одиннадцатилетний еврейский мальчик может совершенно так же маневрировать предсказаниями счастья и несчастья, как и взрослые римские прорицатели, гадающие по внутренностям и полету птиц, и что религиозные убеждения полковника, очевидно, оставляют желать многого. Понятно ли это для других, его мало трогало, может быть, ему и самому было не совсем понятно. Во всяком случае, он был уверен, что покончил с этой историей честно и по-мужски.
Константин не так легко это переварил. Его мучило, что Симон подшутил над его отцом. А снисходительность Симона в последовавшей за этим драке обидела его еще больше. Порвать с товарищем он был не в силах, но глухо и беспомощно выказывал ему свою злобу. Когда шла игра в солдат и разбойников, он присоединялся теперь не к той партии, в которой был Симон, чего раньше никогда не случалось, и если Симон шел в разбойники, то он шел в солдаты. Симона это сердило, но еще больше удивляло. Однажды он спросил Константина прямо, в чем дело и что он, ради Геркулеса, имеет против него. Константин уклонился от ответа, Симон решил, что это, вероятно, из-за серой белки. Он добродушно предложил Константину на месяц одолжить ему зверька. Но после некоторого колебания Константин мужественно отказался:
– Договор есть договор, – сказал он, белки не взял и продолжал дуться и молчать.
Однажды, когда Константин был солдатом, а Симон – разбойником, борьба приняла особенно ожесточенный характер. Вполне понятно, что «Большой Деборой» владели солдаты, а не разбойники. Но вовсе не понятно, почему солдаты должны были запеть песню с припевом «хеп, хеп»:
Напротив, это было нахальством, так как, в конце концов, «Большую Дебору» изобрели евреи, и со стороны пользовавшихся ею было очень нехорошо петь эту песню. Поэтому возмущенный Симон считал делом чести отбить со своими разбойниками у солдат это орудие. Но первая атака была неудачной, неприятельское войско оказалось лучше. Разбойники отступили довольно далеко, чтобы с разбегу захватить «Большую Дебору» в решительной схватке. Само орудие было пущено в ход, Константин обслуживал его, он стрелял быстро, метко. Он предвидел заранее, что атака разбойников удастся и что следующий его выстрел будет последним. Он направил жерло на Симона, выстрелил, попал. Он попал очень метко, Симон, бежавший на приступ, упал и остался лежать. Сначала остальные думали, что это игра, разбойники продолжали наступать, а солдаты защищаться. Но, увидев, что Симон продолжает лежать, они вернулись и обнаружили, что снаряд, сразивший его, не из теста, а из камня. Заряжал не Константин, другие помогали ему, и теперь нельзя было даже установить, кто заложил камень в жерло, – случилось ли это по неосторожности, из любопытства или со злым умыслом. Во всяком случае, Симон лежал на земле и не шевелился; заряд попал ему в лоб, как раз над глазом. Мальчики стояли вокруг, молчаливые, пораженные, пока наконец не вмешались прохожие. Тогда мертвого мальчика отнесли в дом Алексия.
Алексий тотчас же послал за Иосифом. Когда он рассказывал ему все, что знал, Иосиф стоял совершенно спокойно, только его челюсти странно двигались, словно он что-то пережевывал. Одна мысль наполняла его, наполняла всего, вытесняя все остальные: «Я старался, чтобы другой сын мой не стал гоем; тем временем гои убили моего еврейского сына». Он думал об этом неотступно.
Алексий умолк. Иосиф ничего не сказал, он стоял среди комнаты, слегка пошатываясь.
– Разве вы не хотите видеть Яники? – спросил в конце концов Алексий хриплым, глухим голосом.
Иосиф как будто не слышал. Затем вдруг неожиданно спросил:
– Что?
И Алексий повторил враждебно:
– Разве вы не хотите видеть Яники?
После некоторой паузы Иосиф сказал, и его слова прозвучали почти робко:
– Ведь это не полагается.
Алексий изумленно поднял глаза, затем сообразил, что Иосиф, вероятно, имеет в виду запрещение, по которому священник не имеет права приближаться к трупу ближе, чем на четыре шага.
– Ах, так, – отозвался он, и в его голосе прозвучало презрение и разочарование. – Вы же можете видеть его из соседней комнаты, – продолжал он.
– Да, так можно, – нерешительно ответил Иосиф и последовал за Алексием.
Он сел в комнате, рядом с той, где лежало тело. В открытую дверь рассматривал он своего мертвого сына. Тот лежал на опрокинутой кровати. Алексий опрокинул ее, как полагалось, в знак скорби. Алексий оставил его наедине с мертвым, так Иосиф провел всю ночь.
Он размышлял в ту ночь о многом, над чем раньше никогда не задумывался, и когда наступило утро, он стал на много ночей старше. Обычно он боялся погружаться в собственные глубины, он был для этого слишком ленив. Но теперь все его глубины были разверсты, и он вынужден был туда спуститься. В эту ночь он думал не по-гречески, не по-латыни и не по-еврейски, все его мысли складывались на арамейском языке – языке его ранней юности, казавшемся ему всегда безобразным и презренным.
Он спорил сам с собой, хитроумничал, то сваливал всю вину на себя, то на судьбу, на бога, на Дорион. Его скорбь была безмерна, безмерно его раскаяние, безмерны самообличения.
Слишком мало любил он своего еврейского сына. Он обещал Маре беречь его, но оказался плохим стражем, и если она спросит его: «Где Яники, дитя мое, твой сын?» – он ничего не сможет ей ответить. Он прилепился сердцем к сыну гречанки, он гордился этим сыном своего сердца, его он берег, хранительницу же своего еврейского сына он отослал, а сам плохо хранил его; поэтому смерть его сына – заслуженная кара.
Бывал ли когда-нибудь человек столь смешон в своем самомнении? Едва Мара повернулась к нему спиной, эта презренная, дважды отосланная, как ее плохо охраняемый сын уже погиб, убитый теми гоями, которых она так боялась, но среди которых сам Иосиф ходил с небрежным высокомерием, как властелин среди ничтожеств. А теперь он сидит здесь, куча дерьма. Он, человек востоко-запада, человек, написавший космополитический псалом. Он захотел быть одновременно римлянином и евреем, гражданином вселенной. Хорош гражданин вселенной! Если гражданин вселенной тот, кто всюду дома и поэтому – нигде, то Иосиф именно таков. Он ничто. Ни римлянин, ни еврей. Ничто.
Иосиф Флавий. Великий писатель. Его бюст стоит в храме Мира. Он написал прославленную книгу. Он работает над «Всеобщей историей иудеев». «Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них». Куча дерьма.