Детство. В людях. Мои университеты

Детство. В людях. Мои университеты читать книгу онлайн
Вступительная статья Даниила Гранина. Иллюстрации Б. Дехтерева.
Знаменитая автобиографическая трилогия Максима Горького — одно из сокровищ русской литературы. Три сюжетно связанные повести: «Детство», «В людях» и «Мои университеты » — рассказывают о трудностях начала самостоятельной жизни писателя, формировании его характера и мировоззрения. Многочисленные испытания, непрестанная борьба за существование, описанные в книге, показывают, как сложно жить простому народу на Руси, из чего и при каких условиях постепенно складывался нравственный образ русского человека. Настоящее издание приурочено к 150-летию со дня рождения писателя и открывает новую серию «Волжский роман».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И сквозь шум порою доходят до сердца, навсегда укрепляясь в памяти, какие-то особенно жуткие слова:
— Одного всем сразу нельзя бить — надо по очереди…
— Кто нас пожалеет, коли сами себя не жалеем…
— Али бог бабу на смех родил?..
Ночь близко, свежее воздух, тише гул; деревянные дома пухнут, растут, одеваясь тенями. Детей растащили по дворам — спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез, точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмилы сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай к соседке, повитухе и сводне, большой жилистой бабе с утиным носом и золотой медалью «за спасение погибавших» на плоской, мужской груди. Вся улица боится ее, считая колдуньей; про нее говорят, что она вынесла из огня, во время пожара, троих детей, какого-то полковника и его больную жену.
У бабушки с нею — дружба; встречаясь на улице, обе они еще издали улыбаются друг другу как-то особенно хорошо.
Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться, — обнявшись, они топчутся на песке и пылят.
— Перестаньте! — боязливо просит Людмила.
Скосив на нее черные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободе. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб — черный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, — изображены крест, копье, трость и две кости.
Каждую ночь, как только стемнеет, старик встает из гроба и ходит по кладбищу, всё чего-то ищет вплоть до первых петухов.
— Не говори о страшном! — просит Людмила.
— Пусти! — кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата ее, и насмешливо говорит Костроме: — Что врешь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху — пустой, для памятника… А что ходит покойник — это пьяные кузнецы выдумали…
Кострома, не глядя на него, сердито предложил:
— Поди переспи на кладбище, коли так!
Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:
— Мамочка, покойники по ночам встают?
— Встают, — повторила мать, точно издали отозвалось эхо.
Подошел сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:
— Кто из трех до света пролежит на гробу — двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит — уши надеру, сколько хочу, ну?
Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:
— Глупости какие! Разве можно детей подбивать на этакое…
— Давай рубль — пойду! — угрюмо предложил Чурка.
Кострома тотчас же ехидно спросил:
— А за двугривенный — трусишь? — И сказал Вальку: — Дай ему рубль, всё равно не пойдет, форсит только…
— Ну, бери рубль!
Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошел прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:
— Ах, господи, хвастунишка какой… что же это!
— Куда вам, трусы! — издевался Валёк. — А еще первые бойцы улицы считаетесь, котята…
Было обидно слушать его издевки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребятишек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах, учил дразнить их; ребятишки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в нее камнями; однажды дал ей в хлебе иглу.
Но еще обиднее было видеть, как уходит Чурка, съежившись, пристыженный.
Я сказал Вальку:
— Давай рубль, я пойду…
Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:
— Не хочу, не возьму!
И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это еще более усилило насмешки Валька. Я уже хотел идти, не требуя с парня денег, но подошла бабушка и, узнав, в чем дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:
— Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет…
Ее слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.
Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнет вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.
— Гляди же, — предупредил Валёк, — я за тобой всю ночь следить буду!
Когда я пошел на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:
— Ежели что померещится — не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся…
Я шел быстро, хотелось поскорее начать и кончить всё это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и еще какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то екнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.
Спотыкаясь, я подошел к черному гробу. С одной стороны он был занесен песком, с другой — его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие березки, связывая ветвями разъединенные могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки — эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.
Язёв отец — Дрянной Мужик — лениво бьет в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дергает веревку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздается сухой удар маленького колокола, — он звучит кратко, скучно.
«Не дай господь бессонницу», — вспоминается мне поговорка сторожа.
Жутко. И почему-то — душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнет вылезать из могилы?
Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около церкви, похоронена мать…
Еще не всё уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катызовке верещит, захлебываясь, гармоника, за оградою идет всегда пьяный кузнец Мячов и поет, — я узнаю его по песне:
Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, всё топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недосягаемые звезды, а всё на земле исчезло, ненужно и мертво.
Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице, лицом к церкви, и, когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.
Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, — это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания, — хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.
Невольно думалось о матери… Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:
— Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень…
Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:
— Бесчувственный мальчишка, никого не любит…
Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко ее, неловко за нее: редко она наказывала справедливо и по заслугам.
И вообще — очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой, — ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать еще больше. Зачем?
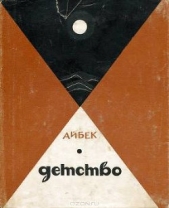

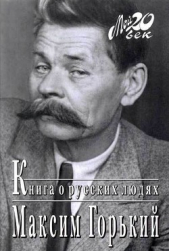


![Биограф[ия]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















