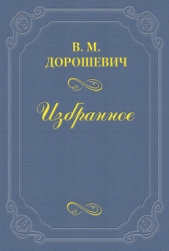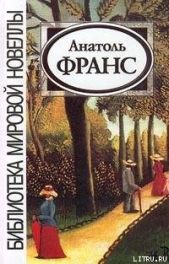5том. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На бело

5том. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На бело читать книгу онлайн
В пятый том собрания сочинений вошли: роман Театральная история ((Histoires comiques, 1903); сборник новелл «Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов» (L’Affaire Crainquebille, 1901); четыре пьесы — Чем черт не шутит (Au petit bonheur, un acte, 1898), Кренкебиль (Crainquebille, pi?ce, 1903), Ивовый манекен (Le Mannequin d’osier, com?die, 1908), Комедия о человеке, который женился на немой (La Com?die de celui qui ?pousa une femme muette, deux actes, 1908) и роман На белом камне (Sur la pierre blanche, 1905).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А ведь я говорю только о честных судьях.
— Таковых громадное большинство, — сказал г-н Губен.
— Таковых громадное большинство, — подтвердил г-н Бержере, — если оценивать их честность с точки зрения общепринятой морали. Но достаточно ли быть относительно честным человеком, чтобы осуществлять, без ошибок и злоупотреблений, чудовищное право наказывать? Хороший судья должен одновременно обладать философским умом и природной добротой. А это значит слишком много спрашивать с человека, который делает карьеру и хочет выдвинуться. К тому же, придерживаясь более высоких нравственных норм, чем принято в его время, судья станет ненавистен своим собратьям и вызовет всеобщее возмущение. Ибо мы называем безнравственностью всякую мораль, которая расходится с нашей. Всем, кто вносит в мир хоть немного доброты, порядочные люди платят презрением. Так произошло с председателем суда Маньо [131].
Вот его суждения, собранные в небольшом томике, с комментариями Анри Лейре [132]. Когда эти суждения были обнародованы, они возмутили строгих судей и добродетельных законодателей. Они свидетельствуют о высочайшем уме и чрезвычайно мягком сердце. Они полны сострадания, они человечны, они добродетельны. В судейских кругах решили, что председатель суда Маньо не способен юридически мыслить, а друзья господина Мелина [133]обвинили его в недостатке уважения к собственности. И действительно, те «принимая во внимание», на которые опирались судебные решения господина председателя суда Маньо, необыкновенны: ибо там в каждой строчке видны свободный ум и великодушное сердце.
Господин Бержере, взяв со стола красный томик, полистал его и прочел:
Честность и неподкупность суть две добродетели, гораздо легче проявляемые, если вы ни в чем не нуждаетесь, чем если у вас ничего нет.
То, чего нельзя избежать, не должно быть наказуемо.
Чтобы справедливо судить о проступке бедняка, судья должен на мгновенье забыть о своем собственном благосостоянии и поставить себя на место этого жалкого существа, покинутого всеми.
При истолковании закона судья должен заботиться не только о частном случае, подлежащем его рассмотрению, но и о тех полезных или вредных последствиях, которые может иметь его приговор в более широком смысле.
Лишь рабочий производит, и он подвергает опасности свое здоровье или жизнь исключительно ради выгоды предпринимателя, который рискует только своим капиталом.
— И ведь я цитировал почти наугад, — добавил г-н Бержере, захлопывая книгу. — Вот новое слово, в котором звучит великая душа!
ГОСПОДИН TOMÁ
Я знавал одного сурового судью. Его звали Тома де Молан, и принадлежал он к мелкому провинциальному дворянству. Он посвятил себя исполнению судейских обязанностей в период президентства маршала Мак-Магона [134], в надежде в один прекрасный день творить правосудие именем короля. У него были принципы, которые он мог бы считать непоколебимыми, ибо никогда не задумывался над ними. Ведь как только коснешься принципа, сразу найдешь в нем какой-нибудь изъян и заметишь, что это вовсе не принцип. Тома де Молан тщательно прятал от собственной любознательности свои религиозные и социальные принципы.
Он был судьей первой инстанции в городишке X***, где я тогда жил. Внешность его внушала уважение и даже некоторую симпатию. Длинное сухое туловище — кожа да кости, желтое лицо. Полнейшая простота придавала всему его облику что-то величественное. Он приказывал называть себя господином Тома, — не из пренебрежения к своему дворянскому званию, но потому, что считал себя слишком бедным, чтобы поддерживать его. Я был довольно близко знаком с ним и знал, что внешнее впечатление не обманчиво и что, при своем скудном уме и вялом темпераменте, он обладал возвышенной душой. Я открыл в нем высокие нравственные достоинства. Но, имея возможность наблюдать, как он исполнял свои обязанности следователя и судьи, я заметил, что сама его безукоризненная честность и глубокое сознание своего долга делали его бесчеловечным и порой лишали всякой прозорливости. Так как он был крайне набожен, то идея греха и искупления, незаметно для него самого, подавляла в его сознании идею преступления и наказания, и он карал виновных несомненно с приятной мыслью об очищении их душ, В человеческом правосудии он видел слабое, но все-таки прекрасное подобие правосудия божественного. Ему вдолбили в детстве, что страдание — благо, что оно само в себе заключает достоинства, добродетель, что оно есть искупление. Он твердо верил в это и считал, что преступник имеет право на страдание. Он любил карать. Это было следствием его доброты. Привыкнув благодарить бога за то, что он ниспосылает ему зубную боль и печеночные колики в наказание за грех Адама и ради вечного спасения, он присуждал бродяг и праздношатающихся к тюрьме и штрафу, словно бы оказывал им благодеяние и помощь. Философию законов он извлекал из своего катехизиса и был беспощаден в прямоте и простоте своей мысли. Нельзя было назвать его жестоким. Но, не будучи чувственным, он не был и чувствительным. Человеческое страдание не было для него понятием конкретным и материальным, а лишь чистой идеей — нравственной и догматической. У него было несколько мистическое пристрастие к системе одиночного заключения, и с нескрываемой радостью в душе и во взгляде он показал мне однажды прекрасную тюрьму, только что выстроенную в его участке: нечто белое, чистое, безмолвное, грозное; камеры по кругу, а надзиратель — в центре, на вышке. Это имело вид лаборатории, выстроенной сумасшедшими для производства сумасшедших. И что за мрачные сумасшедшие сами изобретатели одиночек, желающие исправить преступника при помощи такого образа жизни, который превращает его в тупицу или зверя! Г-н Тома рассуждал иначе. Он молча и удовлетворенно рассматривал эти ужасные клетки. У него была своя тайная мысль: он думал, что заключенный никогда не бывает один, потому что бог пребывает с ним. И его спокойный, довольный взгляд говорил: «Я оставил там пятерых или шестерых наедине с их создателем и вечным судией. Нет на свете участи более завидной».
Этот чиновник производил расследования по некоторым делам, и, между прочими, по делу одного учителя. Светская и церковная школа находились тогда в состоянии открытой войны. Когда республиканцы выступили с разоблачением невежества и грубости монахов, местный клерикальный листок обвинил одного из светских учителей в том, что он посадил ребенка на раскаленную печку. Обвинение нашло поддержку среди сельской аристократии. Пошли всякие рассказы об этом преступлении и его возмутительных подробностях, и молва привлекла к нему внимание правосудия. Г-н Тома, как честный человек, никогда не потворствовал бы своим пристрастиям, если бы знал, что это были пристрастия. Но он воспринимал их как веления долга, поскольку они носили религиозный характер. Он считал своим долгом принимать жалобы на безбожную школу, но не замечал, что принимает их с крайней поспешностью. Я должен сказать, что он расследовал дело с необычайной тщательностью и бесконечным прилежанием. Он вел следствие согласно обычным правилам правосудия и добился замечательных результатов. Тридцать школьников, старательно допрошенных, отвечали ему вначале плохо, затем — лучше, наконец — очень хорошо. После месяца допросов они отвечали столь удачно, что все давали один и тот же ответ. Тридцать свидетельских показаний совпали, они были тождественны, схожи слово в слово, и те дети, которые в первый день говорили, что ничего не видели, заявили теперь в один голос, в одних и тех же выражениях, что их маленький товарищ был посажен голым задом на раскаленную печку. Судья г-н Тома уже готов был радоваться столь блистательному успеху, но учитель привел неопровержимые доказательства, что в школе никогда не было печки. Г-н Тома возымел тогда некоторое подозрение, что дети лгали. Но он и не заметил, что сам, не желая того, внушил им и заставил заучить наизусть их показания.