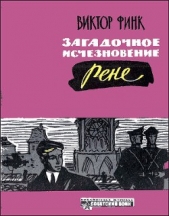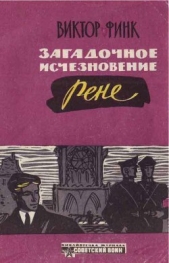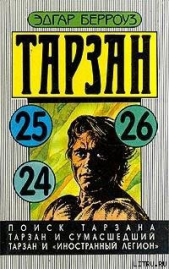Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания
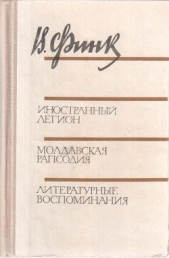
Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания читать книгу онлайн
В повести "Иностранный легион" один из старейших советских писателей Виктор Финк рассказывает о событиях первой мировой войны, в которой он участвовал, находясь в рядах Иностранного легиона. Образы его боевых товарищей, эпизоды сражений, быт солдат - все это описано автором с глубоким пониманием сложной военной обстановки тех лет. Повесть проникнута чувством пролетарской солидарности трудящихся всего мира. "Молдавская рапсодия" - это страница детства и юности лирического героя, украинская дореволюционная деревня, Молдавия и затем, уже после Октябрьской революции, - Бессарабия. Главные герои этой повести - революционные деятели, вышедшие из народных масс, люди с интересными и значительными судьбами, яркими характерами. Большой интерес представляют для читателя и "Литературные воспоминания". Живо и правдиво рисует В.Финк портреты многих писателей, с которыми был хорошо знаком. В их числе В.Арсеньев, А.Макаренко, Поль Вайян-Кутюрье, Жан-Ришар Блок, Фридрих Вольф
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но было в ней и что-то прекрасное. Даже в своей преждевременной старости она сохранила следы былой красоты. Это была женщина высокого роста, черноволосая, с высоким лбом, с прямым носом, с небольшим и мягким ртом, над которым еле темнел нежный пушок, и с бархатистым взглядом черных глаз, прикрытых длинными, густыми ресницами.
Она внушала мне ощущение строгости, ума, воли, душевной чистоты и женственности. Я почувствовал к ней доверие.
— Хозяйка, — негромко сказал я, — не кричите. Я как раз из тех людей, о которых кричать не надо.
Сам не знаю почему, но это сразу ее осадило.
— А что? —уже значительно тише спросила она.
—.Меня румыны ищут.
— Почему? — спросила она еще тише и с испугом.
Из-за ее спины Георгий делал мне отчаянные знаки молчать. Но молчать уже было невозможно.
— А вы, хозяйка-сердце, слыхали про таких людей, которые за крестьянскую долю борются? — спросил я.
Георгий был близок к обмороку.
А хозяйка сначала точно окаменела, потом рванулась ко мне и как-то странно замахала руками. Она хотела что-то сказать, но для меня нужных слов, видимо, не нашла и потомуг набросилась на мужа.
— Ах ты воловья голова! — закричала она громче
прежнего. — Такого человека ты заставил спать на полу? А? На полу?! Горе мое с дураком жить!
Через полминуты я сидел на теплой половине. Хозяйка вытащила из печи котелок кипятку, кинула в него щепотку сушеной моркови, которая должна была заменить чай, достала кусок мамалыги и стала меня потчевать.
Было больно смотреть на убожество жилища Сурду, на скудость его жизни, на хилость малышей, копошившихся на полу, среди грязной рванины. Было тяжело и грустно. Но все-таки было и тепло. Дождь прошел, улыбалось, заглядывая в окно, молодое весеннее солнце, а главное — какое-то простое, бедное, но милое тепло исходило от хозяев, в особенности от хозяйки.
— Не обижайтесь, что я так на вас накинулась, — сказала она и, метнув уже несколько примиренный, но все еще не~слишком мягкий взгляд на мужа, прибавила:— Он знает почему!
Сурду смущенно опустил голову.
— Ага! Стыдно стало? А я скажу!
— Цыть, Мариука! — прикрикнул на нее Сурду.—* Цыть, сорока!
— Вот! Слыхали? — воскликнула Мария. — Выходит, я уже сорока! А что он два раза возвращался из города пьяный и еще других пьяниц привозил, то ничего? То не сорока? Они ж так шумели, что жандарм приходил! Я ж жандарму должна была дать два яйца, чтоб только рыла его не видать поганого. То ничего? То не сорока? Вот я и на вас, извините, подумала.
Сурду сидел, опустив голову, и чесал за ухом. Он был рад неожиданно благополучному повороту дела. Когда Мария отворачивалась, он недоуменно разводил руками, как бы говоря мне: «Ну кто же их породу угадает? Сказано — бабы...»
Он с любовью следил за тем, как ловко она работает в печи ухватом и как умело режет мамалыгу белой ниткой.
А хозяйка потчевала меня неутомимо.
— Кушайте, кушайте, — говорила она. — Люди мы бедные, живем плохо, но такому человеку рады. Не слыхали вы, часом, как с нами будет, с молдаванами? Потому что очень мы сейчас пропадаем! Ой, как пропадаем!
Она помолчала, но очень скоро вспомнила, что на ней лежат обязанности хозяйки.
— Вот что, — сказала она,—полезайте-ка вы на печь, ложитесь спать. Одежду снимите, обсушу. А в торбе у вас что? Может, белье? Давайте постираю.
Обсушиться и поспать мне действительно было необходимо. Но пролежал я на печи недолго, а когда слез, то Георгию, видимо, показалось, что я собираюсь уходить. Он встревожился и предупредил меня, что на улицах люди крутятся, а про людей не знаешь, что кто сделает. Днем мне уходить нельзя, надо подождать до ночи.
Но тут на него опять набросилась жена:
— Ты кого, воловья голова, учишь? Разве такой человек затем приходит, чтобы прятаться, и только одну думку имеет — свою шкуру спасти? Ему с людьми .говорить надо! И не с такими темными, как я да ты! Ему грамотные люди нужны! А ну, бегом ступай до Гудзенки, до Ивана Тихоновича, нехай придет.
Сурду вскочил, точно его подбросило пружиной, и, заковыляв к дверям, опять сделал мне за спиной жены жест, говоривший: «Видал? Видал? То ж прямо нечистая сила».
Скоро он вернулся в сопровождении крестьянина-украинца примерно одних лет с ним и тоже в солдатских шароварах и гимнастерке. Это и был Иван Тихонович Гудзенко. Он выгодно отличался от Сурду живостью ума и был к тому же грамотен. Он сказал мне, что в армии состоял членом полкового комитета, что здесь, в Пет-рештах, грамотных мало, но сочувствующих и боевых очень много. Он не задерживаясь ушел подготовлять собрание.
Глава пятая
Собрание состоялось вечером, у Гудзенко. Хата у него была сравнительно просторная, но народу набилось столько, что дышать нечем было.
Говорили об оккупантах. В Петрештах они еще не злодействовали, бог миловал, но все выступавшие называли их душегубами и жуликами. Так, например, в соседнем селе, верстах в шести отсюда, они в прошлое воскресенье созвали народ на гулянье якобы по случаю
какого-то своего полкового -праздника. Жителям было приказано обязательно прийти всем до одного на базарную площадь, где будет играть музыка. А комендант приказал флагов не вывешивать, а только развесить на плетнях и крыльцах ковры и платки. Жители так и сделали. Потом они, стар и млад, топтались на площади, ожидая, когда начнется музыка. Но часа не прошло — приказали расходиться. Придя домой, никто не нашел своих ковров и платков: все было унесейо в комендатуру, там шла дележка.
Рассказывавший не успел закончить этой истории, как чей-то бас спросил, знаю ли я, что произошло позавчера в Малаештах. Я не знал.
Оказалось, в Малаешты налетел карательный отряд. Жителей — старых и молодых, женщин и детей — согнали на базарную площадь и приступили к поголовной порке.
Люди плакали и рыдали и спрашивали: за что? Действительно, в деревне не произошло никаких нарушений порядка, никаких, хотя бы самых незначительных, столкновений с властями. За что же порют?
Громко кричали истязаемые, плакали испуганные дети, женщины бились в истерике.
За что?
Офицер, командовавший экзекуцией, не отвечал на этот вопрос. Однако, когда уже было выпорото человек пятьдесят, он вдруг спросил, как деревня называется. Ему сказали. Офицер заглянул в свои бумаги и увидел, что ошибся, порет не ту деревню. Он скомандовал «по коням», и отряд ушел размашистой рысью.
До Малаешг было километров двенадцать. Я сказал, что поеду туда сразу же после собрания. ,
Но тут посыпались вопросы, как быть, если подобное произойдет в Петрештах
Не успел я ответить, как поднялся Гудзенко.
— Тут, люди добрые, — сказал он, и голос у него задрожал, — одно будет из двух: или мы их будем бояться, или они нас. Так уж нехай они нас боятся. А для этого их бить надо. Надо, чтоб у них земля горела под ногами, чтоб им ноги пекло...'А недоглядим, они нам головы пообрывают. Вместе нам тут, в Петрештах, жить не можно: или мы, или они.
Повторяю, голос у Гудзенко дрожал от волнения, рт обиды за людей, от горя, от гнева. Минута была торжественная.
Собрание можно было кончать. Я сказал в заключение только несколько слов, в которых тоже поддержал Ивана Гудзенко и призывал всех к борьбе.
Но тут раздался сначала вздох, а потом негромкое и очень осторожное замечание по-молдавски. Оно относилось ко мне. Смысл был такой, что, мол, хорошо мне подавать такие боевые советы: я-то ведь здесь не останусь, уеду, а вот они, жители, останутся, и оккупанты останутся и что захотят, то с ними и сделают.
Сразу весь пафос собрания пошел насмарку. Все слова, гневные и горячие, как бы выдохлись, весь пыл был затоптан ногами, как тлеющий окурок.
Внезапно раздался строгий женский голос:
— Чья воловья голова это сказала?
Никто не ответил. Женщина продолжала:
— Этот приезжий человек уедет, верно. Он в другое село поедет, другим людям глаза открывать. За это он может каждый день голову свою сложить. А за кого? Может, за себя? Может, это ему земля нужна? А зачем она ему? Он не мужик, он городской, да еще, видать, из грамотных! Его Ленин к нам прислал. Вот кто его прислал! Их тысячи таких, как он, тысячи! Раньше, при царе, их в тюрьмах гноили, в Сибирь угоняли. А они и тогда не боялись! Они и тогда боролись за нас, за тех,