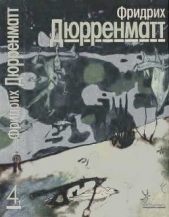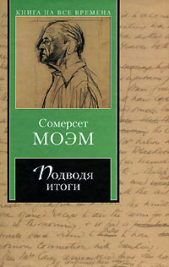Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Пьесы. На китайской ширме. Подводя итоги. Эссе.

Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Пьесы. На китайской ширме. Подводя итоги. Эссе. читать книгу онлайн
В пятый том Собрания сочинений У. С. Моэма вошли его пьесы: «Круг», «За заслуги», очерки о путешествиях «На китайской ширме», творческая исповедь писателя «Подводя итоги», а также эссе из различных сборников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я хочу, чтобы он мог иногда встряхнуться,— говорила она.— Мой бедный муж! Он скучает без бильярда и бриджа. Мужчине очень тяжело, когда ему не с кем поговорить, кроме женщины.
Каждый вечер, после того как дети были уложены, они играли в пикет. Она, бедняжка, ничего в картах не понимала и постоянно допускала ошибки, но, когда муж бранил ее, она говорила.
— Нельзя же требовать, чтобы все были умны, как ты.
И потому, что говорила она с глубокой искренностью, у него не хватало духа рассердиться на нее. Затем, когда помощнику комиссара надоедало выигрывать у нее, они заводили граммофон и, сидя рядышком, молча слушали последние модные песни из лондонских музыкальных комедий. Задирайте нос, если вам угодно. Но они жили в десяти тысячах миль от Англии, и это была их единственная связь с родиной, которую они любили. У них возникало чувство, что они не совсем отторгнуты от цивилизованного мира. А потом они начинали говорить, как устроят детей, когда те подрастут,— ведь скоро их нужно будет отослать домой в школу, и, быть может, сердце маленькой женщины болезненно сжималось.
— Тебе будет тяжело, Берти, когда они уедут,— говорила она.— Но может быть, нас переведут куда-нибудь, где будет клуб, и тогда ты сможешь играть там в бридж по вечерам.
XXXIII. ПЕСНЬ РЕКИ
На реке вы все время ее слышите. Звучно и громко — от гребцов, которые гонят вниз по быстрому течению джонку с высокой кормой и мачтой, привязанной к борту. Надрывным напевом — от впряженных в лямки людей, которые отчаянно пытаются преодолеть силу течения вшестером, если волокут через быстрины вупан, или сотней-другой, когда впряжены в великолепную джонку с поставленным квадратным парусом. На палубе джонки стоит человек и непрерывно бьет в барабан, задавая ритм их движениям, и они тянут, напрягая все силы, как одержимые, сгибаясь в три погибели, а порой, на пределе возможного, ползут по земле на четвереньках, как звери полевые. Они напрягаются, напрягаются, напрягаются, борясь с безжалостной мощью потока. Старшой прохаживается взад и вперед вдоль вереницы и, заметив того, кто не отдается своей задаче целиком, бьет по нагой спине расщепленной бамбучиной. Каждый обязан вкладывать максимум усилий, иначе труд всех окажется тщетным. И тем не менее они ни на миг не обрывают свой напев, неистовый, властный, как бурные воды. Я не знаю, какими словами можно передать нескончаемое усилие. В этом напеве воплощены перенапряженное сердце, грозящие лопнуть мышцы и одновременно — неукротимый дух человека, побеждающего безжалостную стихию. Пусть порвется канат и огромную джонку потащит обратно, рано или поздно быстрины останутся позади, а после дня изнуряющего труда их ждет сытная еда, а может быть, и трубочка опиума, дарящая блаженные сны. Но самая страдальческая песнь — это песнь кули, таскающих огромные тюки хлопка с джонки по крутой лестнице к городской стене. Они поднимаются и спускаются без конца, и бесконечные, как их труд, звучат ритмические вопли. Хи, о-а, ох! Они босы, обнажены по пояс. По их лицам струится пот, и песня их — мучительный стон. Это вздох отчаяния, она обжигает сердце состраданием, она почти нечеловеческая. Это вопль агонизирующих душ, на самой грани музыкальности, а в заключительной ноте — последнее рыдание рода людского. Жизнь слишком тяжела, слишком жестока, и это — заключительный безнадежный протест. Вот она — песнь реки.
XXXIV. МИРАЖ
Он высок, с выпуклыми небесно-голубыми глазами и застенчивыми манерами. Когда глядишь на него, начинает казаться, что он великоват для своей кожи и ему было бы легче, если бы она не так туго натягивалась. Волосы, очень гладкие и упругие, так плотно прилегают к голове, что кажутся париком, и вы с трудом подавляете желание подергать за них. Болтать о пустяках он не умеет и, напрягая мозг в поисках темы для разговора, в отчаянии предлагает вам виски с содовой.
Он возглавляет отделение БАТ, и здание, в котором он живет, одновременно служит конторой, складом и резиденцией управляющего. Гостиная обставлена унылой мягкой мебелью, аккуратно выстроенной по стенам, а середину комнаты занимает круглый стол. Висячая керосиновая лампа обеспечивает тусклый свет, а керосиновая печка — тепло. Где положено в роскошных рамочках висят олеографии из рождественских номеров американских журналов. Но он в этой комнате не сидит. Свободные часы он проводит у себя в спальне. В Америке он жил в меблирашках, где только в спальне мог побыть наедине с собой, и у него выработалась привычка жить в спальне. Сидеть в гостиной ему кажется противоестественным: снимать там пиджак ему неловко, а по-домашнему он чувствует себя, только сняв пиджак. Свои книги и личные вещи он держит в спальне. Там у него есть и письменный стол, и кресло-качалка.
Он прожил в Китае уже пять лет, но китайского не знает и не интересуется народом, среди которого ему, возможно, предстоит прожить лучшие годы. В конторе у него есть переводчик, а в доме всем заведует старший бой. Иногда он отправляется в Монголию и проезжает несколько сот миль по диким гористым местам в китайской повозке или верхом на низкорослой лошадке, ночуя в придорожных гостиницах среди торговцев, гуртовщиков, пастухов, солдат, всяких темных личностей и головорезов. Это неспокойный край, и, когда вспыхивают беспорядки, он подвергается немалому риску. Но поездки чисто деловые. Они ему надоели. И он всегда с радостью возвращается в свою обжитую спальню в здании БАТ. Потому что он большой любитель чтения. Читает он исключительно американские журналы, и количество их, которое он получает с каждой почтой, просто поразительно. Он не выбрасывает их, и по всему дому они громоздятся кипами. Город, в котором он живет,— это ворота из Монголии в Китай, через эти ворота течет неиссякаемый поток монголов с верблюжьими караванами; нескончаемые процессии запряженных волами повозок, везущих шкуры через необъятные азиатские просторы, грохочут по городским мостовым. А он скучает. Ему и в голову не приходит, что он ведет жизнь, где его со всех сторон подстерегают приключения. Их он способен распознать только на печатных страницах. И, чтобы взволновать его кровь, требуется рассказ о стрельбе и погонях в Техасе или Неваде, о невероятных спасениях в последнюю секунду на островах Южного моря.
XXXV. НЕИЗВЕСТНЫЙ
Выбраться в этот палящий зной из города было благом. Миссионер сошел на берег с катера, в котором с удовольствием плыл вниз по реке, и удобно устроился в кресле, ожидавшем его у края воды. Его пронесли через деревню на реке, а там начинался подъем в гору. Ему предстоял еще час пути по широким каменным ступеням под елями, между которыми порой открывался восхитительный вид на могучую реку, сверкающую на солнце в обрамлении ликующей зелени рисовых полей. Носильщики шли ровным плавным шагом. Их потные спины блестели. Это была священная гора с буддийским монастырем на вершине, и у дороги располагались беседки для отдыха, где кули ставили кресло на землю и монах в сером одеянии подавал вам чашку цветочного чаю. Воздух был свеж и душист. Приятность этого неторопливого путешествия — покачивание кресла навевало успокоение — искупала день, проведенный в городе. А в конце пути его ждало уютное бунгало, в котором он обитал летом, и впереди был душистый вечер. В этот день пришла почта, и он вез с собой письма и газеты. Четыре номера «Сатердей ивнинг пост» и четыре «Литерари дайджест». Да, его ждало все самое приятное, и обычный тихий мир (мир превыше всякого ума, как он любил повторять за апостолом Павлом), преисполнявший его всякий раз, когда он оказывался среди этих зеленых деревьев вдали от кишащего людьми города, давно уже должен был бы снизойти на него.
Но он был раздражен. Неприятная встреча — и, при всей ее пустячности, ему никак не удавалось забыть о ней. Поэтому-то его лицо хранило досадливое выражение. Это было тонкое, почти аскетическое лицо с правильными чертами и умными глазами. Он был долговязым, очень худым, с ногами-спичками, как у кузнечика, и, покачиваясь в кресле в такт шагам носильщиков, несколько гротескно, напоминал увядшую лилию. Кроткая душа. Он был не способен обидеть и мухи.