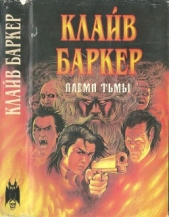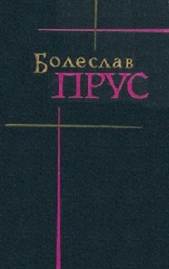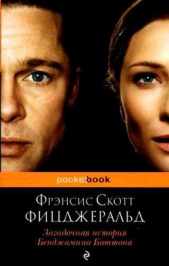Загадочная история Бенджамина Баттона (сборник)
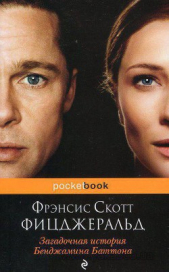
Загадочная история Бенджамина Баттона (сборник) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я уезжала в понедельник, а в субботу мы, как обычно, обедали целой кучей в загородном клубе. Там были Джо Кейбл, сын бывшего губернатора, красивый, беспутный и все же очаровательный молодой человек, Кэтрин Джоунз, миленькая остроглазая девушка с исключительной фигуркой — из-за румян ей можно было дать от 18 до 25, Мэри Бэннерман, Чарли Кинкейд, я сама и еще двое или трое других.
На таких вечеринках я любила слушать веселый поток причудливых местных анекдотов. И мне нравилось добродушное подшучивание, предполагавшее, что каждая девушка бесконечно красива и привлекательна, а парни, каждый с колыбели, тайно и безнадежно влюблены во всех присутствующих дам.
Девушки «божились», ребята «клялись» по самому незначительному поводу, и все то и дело вставляли «золотко», «золотко», «золотко», «золотко».
Майская ночь на дворе была жаркой — тихая, бархатная ночь, с мягкими лапами, густо усеянная звездами. Тяжелая и сладкая, она без единого звука вползала в большую залу, где сидели мы и где потом мы будем танцевать; лишь изредка на подъездной аллее шуршали шинами подъезжавшие машины.
Ужас, однако, уже навис над нашей маленькой группой; незваный гость, он отсчитывал часы и напряженно ждал момента, когда сможет показать свое бледное, ослепляющее обличье.
Вскоре прибыл оркестр из цветных, за ним последовал первый приток танцующих. В комнату ввалился громадный краснолицый мужчина в заляпанных грязью сапогах по колена и револьвером на ремне; прежде чем подняться наверх в раздевалку, он задержался у нашего стола. Это был Билл Эйберкромби, шериф. Один из ребят что-то спросил его шепотом, и он, тоже стараясь говорить тихо, ответил:
— Да… Он на болоте, как пить дать: фермер видел его у магазина на перекрестке… Я бы и сам не прочь пальнуть по нему разок-другой.
Я спросила сидевшего рядом со мной парня, в чем дело.
— Да один черномазый, — ответил он. — В Киско, около двух миль отсюда. Прячется на болоте, но завтра пойдут его ловить.
— А что с ним сделают?
— Повесят, наверное.
На мгновение мысль о потерявшем надежду чернокожем, жалко скорчившемся в трясине в ожидании зари и смерти, повергла меня в уныние. Но это чувство быстро прошло и забылось.
После обеда Чарли Кинкейд и я вышли на веранду — он только что узнал о моём отъезде. Я держалась как можно ближе к другим, отвечая на его слова, но не на взгляды — что-то внутри меня протестовало против того, чтобы оставить его под таким обычным предлогом. Меня так и подмывало напоследок дать чувству между нами вспыхнуть.
Девушки стали заходить в здание и подниматься в женскую комнату, чтобы привести себя в порядок, и я — Чарли все еще был рядом — последовала за ними. Именно тогда мне захотелось заплакать — возможно, у меня уже помутилось в глазах, а может, я просто боялась, как бы этого не произошло, только я по ошибке распахнула дверь небольшой комнатки для игры в карты, и с этой моей ошибкой трагическая машина той ночи пришла в движение. Там, не далее чем в пяти футах от нас, стояли Мэри Бэннерман, невеста Чарли, и Джо Кейбл. Они целовались.
Я быстро захлопнула дверь и, не взглянув на Чарли, отворила нужную мне и побежала наверх.
Несколькими минутами позже в переполненную женскую комнату вошла и Мэри Бэннерман. Увидев меня, она сразу же подошла ко мне, улыбаясь в каком-то притворном отчаянии.
— Ты ведь никому ничего не скажешь, правда, золотко? — прошептала она.
— Разумеется, нет. — Я подивилась, какое это имеет значение, раз Чарли Кинкейд обо всем знает.
— А кто это еще нас видел?
— Только Чарли Кинкейд и я.
— О-о! — Она казалась слегка озадаченной, потом добавила: — Он ушел, не сказав ни слова. Мы вышли, золотко, смотрим, а он уже в дверях. Я боялась, что он дождется нас и набросится на Джо.
— Неужели ты не боялась, что он набросится на тебя? — не удержалась я.
— Ну, за этим дело не станет. — Она кисло улыбнулась. — Но я знаю, как с ним управляться, золотко. Я только и боюсь его, когда он вскипит сразу. — Она присвистнула, будто что-то вспомнив. — Мне ли не знать — однажды такое уже было.
Мне хотелось залепить ей пощечину. Я повернулась к ней спиной и отошла под предлогом, что хочу взять булавку у Кейти, цветной служанки. Вниманием последней завладела Кэтрин Джоунз — она показывала ей коротенькое бумажное одеяние, которое надо было починить.
— Что это? — спросила я.
— Платье для танца, — коротко ответила она — во рту у нее было полно булавок. Вытащив их, она добавила: — Все разлезлось — слишком часто я его надевала.
— Ты будешь сегодня танцевать?
— Хочу попробовать.
Кто-то говорил мне, что она собиралась стать танцовщицей — даже брала уроки в Нью-Йорке.
— Помочь тебе?
— Спасибо, не надо… хотя… ты умеешь шить? Кейти по субботним вечерам так возбуждается, что ни на что не годится, разве что булавки подавать. Буду бесконечно тебе благодарна, золотко.
Спускаться вниз мне пока не хотелось — у меня были на то основания, — и я села и поработала над ее платьем с полчаса, а сама все думала о Чарли: ушел ли он домой, увижу ли я его вообще, но о том, свободен ли он теперь этически, думать не смела. Когда же я наконец сошла вниз, его нигде не было видно.
Зал уже был полон — столы убрали, танцы стали всеобщими. В то время, сразу после войны, у всех южных парней была манера, вращаясь в танце, на носках, водить пятками из стороны в сторону, и, желая овладеть этим искусством, я потратила немало часов. Многие ребята пришли без девушек, почти все они были навеселе от кукурузной самогонки; мне самой раза два за танец предлагали выпить, но я отказывалась — ужасное пойло, даже когда ее разбавляют, как принято, каким-нибудь безалкогольным напитком, а не хлещут из горлышка теплой бутылки. Только некоторые девушки, вроде Кэтрин Джоунз, тянули иногда из фляжки какого-нибудь парня в тёмном конце веранды.
Кэтрин Джоунз мне нравилась — в ней, казалось, больше энергии, чем в других девушках, хотя тетушка Мусидора всякий раз, когда Кэтрин заезжала за мной в своем автомобиле, чтобы съездить вместе в кино, презрительно фыркала и говорила, что вот теперь-то уж определенно «нижняя ступенька добралась до верхней». Она была из «новой и простой» семьи, но мне сама ее простота казалась ценным качеством. В то или иное время чуть ли не каждая девушка в городе доверительно сообщила мне, что ее заветным желанием было «уехать отсюда в Нью-Йорк», но лишь Кэтрин Джоунз решилась на этот шаг.
На этих субботних вечеринках ее часто просили станцевать что-нибудь «классическое» или исполнить какой-нибудь акробатический танец в деревянных башмаках; однажды — этот случай всем запомнился — она досадила правлению, клуба, выдав «шимми» (в то время крик моды в джазе), и новым, даже несколько поразительным оправданием для нее было то, что она была «так пьяна, что все равно не соображала, что делает».
В двенадцать музыка умолкала — в воскресное утро танцы запрещались. В половине двенадцатого раскатистая фанфара трубы и барабан пригласили танцующих и парочки на верандах, а также тех, кто сидел в машинах во дворе или забрел в бар, обратно в танцзал. Внесли стулья и бегом, кучей, с шумом подтащили их к приподнятой платформе — оркестр уже освободил ее и расположился рядом. Затем при убавленном заднем освещении музыканты заиграли мелодию в необычном сопровождении ударных, какого я еще не слышала, и тут же на подмостках появилась Кэтрин Джоунз. На ней были то самое коротенькое деревенское платьице, над которым я совсем недавно работала, и широкополая шляпа от солнца.
Ничего подобного я еще не видела, а снова увидела только пять лет спустя. Это был чарльстон — наверняка это был чарльстон. Помню двойные удары барабана, похожие на выкрики «Гей! Гей!», непривычные взмахи рук и странное выворачивание коленей. Бог знает, где только она этому научилась.
Ее зрители, знакомые с негритянскими ритмами, так и подались вперед — даже для них это было что-то новое, а у меня в голове эта картина запечатлелась до того ясно и неизгладимо, что я вижу все, как сейчас: раскачивающаяся и притопывающая фигура на подмостях, возбужденный оркестр, ухмыляющиеся в дверях бара официанты; а со всех сторон — с болот и хлопковых полей, с буйной листвы и мутных теплых потоков — просачивается во все окна мягкая и томная южная ночь. Не знаю, в какой именно момент меня стало обуревать чувство напряжённой тревоги; вероятно, беспокойство овладело мною при первых же ударах этой варварской музыки.