Том 1. «Ворота Расёмон» и другие новеллы
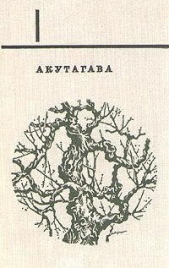
Том 1. «Ворота Расёмон» и другие новеллы читать книгу онлайн
Акутагава - классик японской литературы (1892 - 1927).
Собрание включает наиболее известные произведения автора, как уже публиковавшиеся на русском языке, так и издающиеся впервые. Его рассказы и повести глубоко философичны и психологичны вне зависимости от того, саркастичен ли их тон или возвышению серьезен.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Какое там влюбился! Я даже не знал...
— Что за чепуху ты говоришь! Если ты ее не знал, то какая разница, сидела она позади нас на концерте или нет?
— Дело в том, что, когда я вернулся домой, мама спросила, видел ли я женщину, которая сидела позади меня. Оказывается, ее прочат мне в жены.
— Значит, тебе устроили смотрины?
— До смотрин еще не дошло.
— Но раз ты захотел ее увидеть, это и есть смотрины. Не так ли? Твоя мамаша тоже хороша. Уж раз она хотела показать тебе эту девушку, надо было ее посадить впереди нас. Поверь, если бы мы имели глаза на затылке, мы бы не пробавлялись, как теперь, обедом за двадцать сэнов.
Услышав от меня такую тираду, воспитанный в почтении к родителям Нарусэ удивленно взглянул на меня, затем заговорил снова:
— Если предположить, что эти смотрины устраивались в первую очередь для нее, то получается, что нас правильно посадили впереди.
— В самом деле, если в таком месте хотят устроить смотрины, кому-либо одному ничего не остается, как подняться на сцену... Ну, а что ты ответил матери?
— Сказал, что не видел. Я ведь на самом деле не видел ее.
— Ну и что же. Теперь ты собираешься излить мне свои горести. Не выйдет... Эх, жаль. Сглупили мы. Не надо было устраивать эти смотрины на концерте. Другое дело, если бы шла какая-нибудь пьеса. Во время пьесы меня и просить не надо. Я глазею на всех, кто пришел в театр. Ни одного не пропускаю.
Тут мы с Нарусэ не выдержали и расхохотались.
В этот день после обеда были занятия немецким языком. Мы посещали их, так сказать, по ямбической системе: когда Нарусэ шел на лекцию, я отдыхал, когда я присутствовал на занятиях, отдыхал Нарусэ. Мы по очереди пользовались одним учебником, проставляя каной транскрипцию немецких слов, и по нему потом вместе готовились к экзаменам. На этот раз была очередь Нарусэ, и я, вручив ему после обеда учебник, вышел из харчевни на улицу.
Пронизывающий ветер поднимал в небо тучи пыли. Он подхватывал на аллее желтые листья гинко и загонял их даже в букинистическую лавку, что напротив университета. Внезапно мне пришла в голову мысль навестить Мацуока. В отличие от меня (да и, должно быть, от большинства людей), Мацуока считал, что в ветреные дни на него находит душевное успокоение. Вот я и подумал, что в такую погоду, как сегодня, он обязательно находится в приятном расположении духа, и, придерживая то и дело норовившую слететь с головы шапку, отправился на Хонго, 5. У входа меня встретила старушка, которая сдавала Мацуока комнату.
— Господин Мацуока изволит еще отдыхать, — сказала она с выражением сожаления на лице.
— Неужели еще спит? Ну и соня!
— Нет, он изволил работать всю ночь и совсем недавно еще был на ногах. Он сказал мне, что ложится спать и теперь, наверно, изволит отдыхать.
— А может быть, он еще не уснул. Пойду-ка я взгляну. Если спит, сразу же спущусь обратно.
Ступая на носки, я поднялся на второй этаж, где находилась комната Мацуока. Раздвинув фусума, я вошел в полутемную из-за закрытых ставен комнату, середину которой занимала постель Мацуока. У изголовья стоял своеобразный столик из папье-маше, на котором в беспорядке громоздились страницы рукописи. Под столом на разостланной старой газете лежала довольно большая горка шелухи от земляных орехов. Я сразу вспомнил, как Мацуока однажды сказал, что работает над трехактной пьесой. «Пишет», — подумал я. При обычных обстоятельствах я бы сел за стол и попросил Мацуока прочитать только что вышедшую из-под пера рукопись. К сожалению, Мацуока, который должен был откликнуться на мою просьбу, спал как убитый, прижавшись к подушке давно не бритой щекой, У меня, конечно, и в мыслях не было разбудить отдыхавшего после ночных трудов Мацуока. Но в то же время мне почему-то не хотелось просто так встать и уйти. Я присел у его изголовья и стал наудачу читать отдельные страницы рукописи. В этот момент резкий порыв ветра потряс весь второй этаж. Но Мацуока по-прежнему спал, тихо посапывая. Я понял, что делать мне здесь больше нечего, нехотя поднялся и стал потихоньку отходить от изголовья. В это время я случайно взглянул на Мацуока и увидел у него между ресницами слезы. Мало того. На его щеках были тоже видны следы слез. Он спал и плакал во сне. В тот самый момент, когда я обратил внимание на столь необычное его лицо, бодрое настроение, которое охватило меня вначале (мол, человек пишет, работает) куда-то улетучилось. В душе внезапно поднялось чувство невыносимой безысходности, словно я тоже всю ночь напролет страдал, одну за другой исписывая страницы рукописи. «Глупый человек! Занимается таким тяжелым трудом, от которого плачет даже во сне. А если здоровье потеряешь? Что ж ты будешь делать тогда?» — такими словами хотел я обругать Мацуока. Но за этим желанием скрывалось и другое — похвалить: «Вот ведь как он страдает!» Когда я так подумал, у меня самого незаметно выступили на глазах слезы.
Я потихоньку спустился по лестнице вниз. Старуха с беспокойством спросила:
— Он изволит почивать?
— Спит, как сурок, — резко ответил я и, не желая, чтобы старуха заметила мое заплаканное лицо, быстро вышел на улицу.
На улице по-прежнему ветер поднимал тучи пыли. В небе что-то ужасно ревело. Я раздраженно взглянул вверх. Высоко в небе плыл в зените маленький белый диск солнца. Я остановился посреди улицы и стал думать, куда бы теперь пойти.
Январь 1919 г.
ПРОСВЕЩЕННЫЙ СУПРУГ
Некоторое время тому назад в музее Уэно открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи. Однажды, когда пасмурный день уже клонился к вечеру, я пришел на выставку и стал обходить зал за залом, внимательно рассматривая выставленные экспонаты. Войдя в последний зал, я обратил внимание на человека, разглядывавшего несколько тронутых временем эстампов. Это был пожилой господин, стройный и даже несколько франтоватый, в безукоризненном черном костюме и дорогом котелке. С первого взгляда я узнал в нем виконта Хонда, с которым меня познакомили на одном рауте несколько дней тому назад. Мне и раньше было известно о нелюдимом характере виконта, поэтому я сразу же отошел в сторону, раздумывая, приветствовать его или нет. Тем временем виконт Хонда, очевидно, услышал звук шагов и медленно повернулся в мою сторону. В следующий момент на его губах, наполовину прикрытых седеющими усами, мелькнула тень улыбки. Он слегка приподнял котелок и мягким голосом приветствовал меня. Я сразу почувствовал себя несколько свободнее, вежливо поклонился и не спеша направился к нему.
Виконт Хонда принадлежал к той породе людей, у которых старческая красота озаряет лицо, словно отблеск вечерней зари. В то же время глубокие душевные страдания оставили на нем необычный для представителя аристократии отпечаток задумчивости. Помню, что во время первого знакомства, так же как и сегодня, я обратил внимание на булавку с большой жемчужиной, которая меланхолически блестела на однотонном черном фоне его костюма. Я смотрел на нее, и мне казалось, что я заглядываю в самое сердце виконта...
— Как вы находите эти эстампы? Здесь, кажется, изображен сеттльмент Цукидзи. Гравюра выполнена мастерски, не правда ли? Интересно использовано сочетание света и тени.
Виконт говорил тихим голосом, одновременно указывая серебряным набалдашником, украшавшим его тонкую трость, на один из эстампов, висевших за стеклом стенда. Я утвердительно кивнул.
— Токийский залив со слюдяными волнами, пароходы, украшенные флагами разных стран, европейские мужчины и женщины, прогуливающиеся по улице, одинокая сосна в стиле Хиросигэ, простирающая ветви над европейским домом, — чувствуется смешение японского и европейского как в выборе темы, так и в методе исполнения — то самое смешение, которое создавало чудесную гармонию, присущую искусству раннего Мэйд-зи. С тех пор эта гармония была навсегда утрачена нашим искусством. Она исчезла и в нашем родном Токио.
Выслушав виконта, я снова кивнул в знак согласия и сказал, что гравюра, изображающая сеттльмент Цу-кидзи, интересна не только сама по себе. Она напоминает о невозвратно ушедшей в прошлое эпохе просветительства с ее двухместными колясками рикш, украшенными стилизованными изображениями львов, с ее дагерротипами, с которых взирают на нас нарядные гейши... Виконт с улыбкой выслушал меня и не спеша направился к витрине напротив, где висели гравюры укиёэ, созданные Тайсо Ёситоси.


























