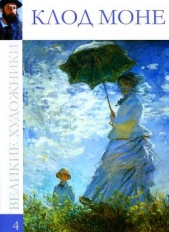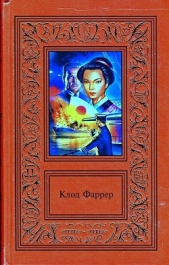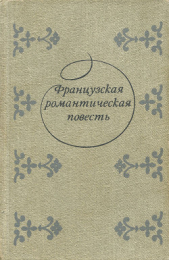Творчество

Творчество читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Серьезным препятствием служили скудные размеры его мастерской. Вот если бы он располагал хотя бы своим старым чердаком на Бурбонской набережной или обширной столовой Беннекура! Но что сделаешь в этой длинной комнате, узкой, как коридор, которую хозяин имел нахальство сдавать художникам за четыреста франков только потому, что застеклил одну из стен! Хуже всего было то, что эта застекленная стена выходила на север, была зажата между высокими зданиями и в нее проникал лишь зеленоватый сумрачный свет. Приходилось отложить великие замыслы и решиться приступить к более мелким, утешая себя тем, что величина полотен не является непременным мерилом гения.
Ему казалось, что настал момент выдвинуться отважному художнику, который сумеет проявить подлинную оригинальность и искренность среди того развала, в какой пришла старая школа! Пошатнулись все вновь найденные формальные завоевания: Делакруа умер, не оставив учеников, Курбе тоже оставил после себя только немногих последователей, неловко ему подражавших; их творения стали теперь всего лишь потемневшими от времени музейными шедеврами, всего лишь памятниками искусства прошедшей эпохи. Клоду казалось, что именно ему дано внедрить, оттолкнувшись от них, новую форму, которая пойдет дальше, неся в живопись солнечный свет, как ясную зарю, встающую в новых картинах, написанных под влиянием восходящей школы пленэра. Это влияние стало неопровержимым, светлые творения, над которыми так смеялись в Салоне Отверженных, подспудно влияли на многих художников, постепенно высветливая их палитру. Никто еще полностью не отдавал себе в этом отчета, но пленэр уже был пущен в ход; наметилась эволюция, все яснее обозначавшаяся с каждой новой выставкой в Салоне. Каково же будет потрясение, когда среди всех бессознательных и бессильных копий, среди робких и неискренних попыток ловкачей появится мастер, воплотивший свой замысел с дерзновением силы в новую форму, без уступок, без оговорок, цельно и убедительно, как истинный выразитель конца века!
Клод, охваченный страстной надеждой, освободился от присущих ему сомнений, поверил наконец в свой гений. Прежние припадки отчаяния, когда он неделями бегал по городу, стремясь вернуть утерянное равновесие, не повторялись. Страстное напряжение держало Клода подтянутым. Художник работал со слепым упорством, как бы вскрывая себе сердце, чтобы извлечь из него сокровенный плод. Длительный отдых в деревне освежил его восприятие, обновил радость творчества, он как бы вновь родился для своего ремесла, обретя легкость и ловкость, которых у него никогда дотоле не было; появилась и уверенность в достигнутых им успехах и глубокое удовлетворение удачными набросками, сменившими прежние бесплодные попытки. Он овладел пленэром, как говорил когда-то в Беннекуре, пленэром — веселой живописью поющих тонов, которая буквально потрясала товарищей, забегавших его проведать. Все они приходили в восторг и были убеждены, что ему предстоит занять место на самой вершине, ведь его творения носили такую яркую печать индивидуальности, в них впервые природа была освещена истинным светом, со всей присущей ему игрой рефлексов и непрестанным разложением цвета.
Целых три года Клод боролся, не сдаваясь, неудачи лишь подстегивали его, он не отрекался от своих идей и с суровым мужеством верующего смело шел вперед.
Первый год, в декабрьский снег, он каждый день по четыре часа стоял за Монмартрским холмом, на углу пустыря, и писал там картину на фоне нищеты, жалких низеньких лачуг, над которыми торчали фабричные трубы; на первом плане, в снегу, маленькая девочка и уличный мальчишка в лохмотьях уписывали украденные ими яблоки. Упорное стремление Клода писать во что бы то ни стало на натуре чудовищно усложняло работу, ставило на его пути почти непреодолимые трудности. И все же он закончил это полотно на натуре; в мастерской он позволил себе лишь его подчистить. Когда он поставил картину в мертвенном освещении своей мастерской, она его самого поразила своей резкостью: это была как бы открытая на улицу дверь; снег слепил, две фигурки жалобно выделялись на нем грязно-серыми тонами. Он тотчас почувствовал, что такая картина не будет принята, но даже и не подумал смягчить ее, а послал в Салон такой, как она была. Хотя он и поклялся когда-то, что никогда впредь не будет выставляться, теперь он считал необходимым каждый год что-либо предлагать жюри, хотя бы для того, чтобы жюри имело возможность еще раз ошибиться; теперь он признал, что Салон является единственным полем битвы, где художник может выступить и проявить себя. Жюри отказалось принять его картину.
В следующем году он ударился в противоположную крайность. Он выбрал уголок Батиньольского сквера в мае месяце: громадные каштаны отбрасывали густую тень на стелющийся газон лужайки, в глубине виднелись шестиэтажные дома, а на первом плане сидели на ярко-зеленой скамейке нянюшки и жители квартала, глядя на трех малышей, игравших в песке. Потребовалось большое мужество, получив разрешение, работать там, среди зубоскалящей толпы. Ему пришлось приходить туда в пять часов утра, чтобы писать фон, что же касается людей, то пришлось ограничиться лишь набросками, которые он закончил в мастерской. На этот раз картина показалась ему не столь резкой. Манера письма несколько смягчилась от мертвенного освещения мастерской, где он дописывал картину. Он был уверен, что ее примут: ведь все друзья признали картину шедевром и распространили слух, что она должна произвести переворот в Салоне. Когда стало известно о новом отказе жюри, все пришли в негодование и возмущение — это уже было не простое отрицание, дело шло о систематической травле оригинального художника. Сам художник, пережив первый приступ ярости, обернул гнев на картину, которую он посчитал лживой, бесчестной, ненавистной. Этот заслуженный, как он говорил, урок не пройдет даром: разве можно было писать солнечный день в подвальном освещении его мастерской? Разве это не равнозначно возврату к грязной буржуазной кухне модных живописцев? Когда ему вернули картину, он взял нож и разрезал ее на куски.
Третий год ушел еще на одно бунтарское произведение. Художнику требовалось яркое солнце, все солнце Парижа, которое иногда раскаляет добела мостовые и заставляет ослепительно сверкать фасады зданий; нигде, кажется, не бывает жарче, люди буквально сгорают, как в Африке, под пламенеющим небом. Клод выбрал угол площади Карусель, час дня — самый накал жары. В раскаленном воздухе, дремля, трясется извозчик, голова у лошади опущена, она взмылена, от нее идет пар; прохожие как бы опьянели от зноя, и только одна молодая женщина, розовая и свежая, спокойно идет под зонтиком, словно королева, как будто для нее эта жара — родная стихия. Картина была необычайно трудна совершенно новым воплощением света, во всем его, точно прослеженном художником, последовательном разложении, нарушавшем все обычные представления человеческого глаза; художник акцентировал голубые, желтые, красные тона там, где никто не привык их видеть. В глубине картины виднелся Тюильрийский сад, тонувший в золотистой дымке; мостовая казалась окровавленной, а прохожие были намечены лишь темными пятнами, силуэтами, меркнущими в ослепительном свете. На этот раз друзья, продолжая восторгаться, почувствовали некоторую тревогу, испугались за Клода: ведь такая живопись не приведет художника ни к чему хорошему. За похвалами приятелей Клод отлично различил их неодобрение; в минуту слабости, когда жюри вновь не допустило его картину в Салон, он скорбно воскликнул:
— Все ясно! Возврата нет… Я так и подохну!
Несмотря на то, что его мужественное упорство, казалось, возрастало, начали возвращаться прежние приступы сомнения, мучительные, ожесточенные попытки одолеть непокорную натуру. Все возвращенные ему из Салона картины казались ему плохими, незавершенными, несоответствующими затраченным на них усилиям. Еще больше, чем отказы жюри, его огорчала собственная неполноценность. Разумеется, он не оправдывал жюри, его творения, даже и в зародышевом состоянии, стоили во сто раз больше, чем все принятые в Салон посредственные полотна; какое, однако, страдание не уметь выразить себя до конца, не уметь вполне проявить свой гений! По-прежнему в картине были великолепные куски, он был вполне удовлетворен то тем, то другим. Но откуда же брались его внезапные промахи? Где причина постоянной недоработанности, которая никогда не бросалась ему в глаза в пылу творчества, а потом убивала картину неизгладимыми изъянами? Он чувствовал, что бессилен что-либо изменить; в какой-то момент перед ним как бы вырастала стена, громоздились непроходимые препятствия, наступал тот предел, за который ему не было дано перейти… Если он двадцать раз принимался за одно и то же, недостатки только увеличивались в двадцать раз, все спутывалось, живопись обращалась в какое-то месиво. Он начинал нервничать, уже не видел, что пишет; творческая его воля как бы парализовалась, атрофировалась. В такие периоды ему казалось, что ни глаза, ни руки не слушаются его, и наступал тот упадок творческих сил, который уже издавна так тревожил его. Кризисы учащались, целыми неделями он терзался, изводил себя, как маятник, качаясь от неуверенности к надежде; в тяжкие часы сомнений и ожесточенной борьбы с неподатливой натурой единственной его опорой была мечта-утешительница, мечта о будущем шедевре, в котором он весь растворится и обретет силу в творчестве. Всегда повторялось одно и то же явление: его творческие замыслы шли вперед куда быстрее, чем руки. Когда он работал над одной картиной, в его воображении уже вырисовывалась другая. Он начинал неистово торопиться, приходил в отчаяние, спешил поскорее избавиться от опостылевшей картины, над которой работал; несомненно, она опять никуда не годится, то, что он делает сейчас, — это все те же роковые уступки, сплошное жульничество, нужно поскорее выбросить это из головы, а вот то, что он собирается сделать в будущем, — о, это будет великолепно и героично, недосягаемо, нерушимо! Мираж возникал беспрестанно, подстегивая мужество одержимого искусством художника; без этой смягчающей действительность лжи творчество стало бы для него совершенно невозможным, он никогда не сумел бы воссоздать жизнь!