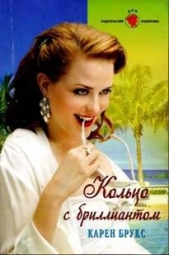Когда всё кончилось

Когда всё кончилось читать книгу онлайн
Давид Бергельсон (1884–1952) — один из основоположников и классиков советской идишской прозы. Роман Когда всё кончилось (1913 г.) — одно из лучших произведений писателя. Образ героини романа — еврейской девушки Миреле Гурвиц, мятущейся и одинокой, страдающей и мечтательной — по праву признан открытием и достижением еврейской и мировой литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что? Не правда ли?
Сильнее, чем когда-либо, чувствовалось в его речи мягкое галицийское произношение. Сидя, он подавался вперед всей верхней частью туловища каждый раз, когда кто-нибудь входил к нему в комнату: словно кто-то надавливал сзади, на спине, скрытую электрическую кнопку и заставлял его, из любезности к гостю, торопливо раскланяться и выжать из себя несколько обычных слов:
— Садитесь, пожалуйста.
Все в доме со страхом предчувствовали беду и ежеминутно в тревоге ждали ее приближения; тревога одолевала всех вплоть до середины зимы, когда из-за какой-то глупости дела еще более запутались и почти по всей округе стали носиться смутные слухи.
Рассказывали о каком-то давнишнем враге реб Гедальи Гурвица, жившем в уездном городе, который в тамошнем банке подвел под него настоящую мину.
Рассказывали еще о старом директоре этого самого банка, закадычном приятеле Гурвица, который будто бы сам выразился, что нужно быть особенно осторожным и не давать ему больше ни гроша в кредит.
Как-то уж очень часто стал ездить тогда реб Гедалья на собственных лошадях в уездный город.
Уезжал он большей частью еще в воскресенье, а возвращался обычно в пятницу, как раз к моменту зажигания свечей. Поспешно войдя в дом, заставал он такую картину.
В черной шелковой кофточке, субботнем парике и бриллиантовых серьгах, сидела уже Гитл, жена его, возле серебряных подсвечников, стоявших на белоснежной скатерти рядом с булками, прикрытыми салфеткой; она разглядывала свои накрашенные ногти и ждала, чтобы среди вереницы беленых домишек на противоположной стороне вспыхнул первый субботний огонек в окне раввина.
Реб Гедалья, как всегда, бывал очень занят и рассеян; наскоро выпивал он чашку чаю, не замечая, что козырек его шелкового картуза съехал немного вбок. Между одним глотком и другим он торопливо отвечал на вопросы Гитл: он побежал к тому члену правления, о котором директор сказал, что он самый главный. От правления помчался обратно к директору. С ними обоими все уже было улажено, но есть еще третий — старый генерал, и четвертый — польский магнат… К ним с Божьей помощью получит он протекцию на будущей неделе… наверное, получит…
Он вообще не падал духом и был полон надежд; несмотря на свою рассеянность, он не забывал привозить домой подарки; а однажды даже сострил по поводу новой шелковой шапочки, которую купил себе в уездном городе. Гитл была тогда вне себя из-за этой шапки.
— Покупает себе шапку, — говорила она, — и не видит, что шапка влезает на самые уши.
Тогда он, бестолковый человек, едва заметно улыбнулся острым своим носом:
— А ты думаешь, голова моя была тогда в уездном городе? Голова-то была дома.
Потом он надевал праздничную одежду и мчался на субботнюю молитву в старую синагогу садагурских хасидов; здесь его место было у восточной стены, рядом с ним сидели все солидные люди, богачи, по большей части молодые; они оставались на своих местах еще после молитвы, поглядывали на него почтительными и по-собачьи благодарными глазами и готовы были вечно за него Бога молить, потому что он с ними честно рассчитался и своевременно расплатился.
Они действительно были дружески к нему расположены, эти солидные молодые богачи в шелковых одеждах. Но деньгами своими дорожили они больше всего и теперь чувствовали себя глубоко виноватыми, оттого что боялись доверить эти деньги Гурвицу. Понуро и молчаливо возвращались они домой, и часто кто-нибудь ни с того ни с сего заявлял: «Все-таки порядочный человек — этот реб Гедалья! Очень, очень порядочный человек!»
Обыватели городка между тем проявляли большое любопытство и ждали с нетерпением, чем все это кончится: «Выпутается когда-нибудь реб Гедалья или нет?»
Очень уж тогда в городе этим интересовались, и конца не было всяким толкам.
Не хотела об этом говорить одна лишь Миреле, единственная дочка Гедальи, красивая, стройная девушка, избалованная своими домашними; она теперь не то из любви к отцу, не то ради собственного удобства по целым дням пропадала из дому.
Очень задумчива и капризна была она в ту пору и слишком сурово обращалась даже с хромым студентом Липкисом, который из-за нее не поехал в этом году в университет и повсюду, прихрамывая, плелся за ней. А она, идя рядом с ним, иногда надолго забывала о его существовании; и, когда потом вдруг взглядывала на него, лицо ее приобретало такое странное, удивленное выражение, словно она увидала нечто необычайное и непонятное: «Вот тебе на! Да он тут все время шагает возле нее, Липкис!» А она думала, что он уж давным-давно дома…
Если же она удостаивала его своим вниманием, то никак не могла удержаться, чтоб не кольнуть словцом вроде: «Липкис, почему у вас так странно растут усы? Ни у кого так странно усы не растут, как у вас». Или: «В общем, у вас, Липкис, наружность сносная, но если хорошенько присмотреться, то вы страшно похожи на японца».
Он чувствовал себя в такие минуты очень плохо в ее обществе и не находил слов; думал долго о том, что скрывается за ее молчанием, много раз приходил к выводу, что необходимо сказать ей что-нибудь утешительное насчет положения ее отца и всей их домашней неурядицы, и однажды наконец принялся мямлить:
— Я-то, собственно говоря, понимаю, что не в деньгах — корень беды… А все же, не знаю почему, каждый раз, когда в последнее время прихожу к вам в дом и вижу вашего отца, мне кажется, что передо мной разыгрывается трагедия…
Но Миреле даже не повернула к нему тогда головы и продолжала молча глядеть голубыми глазами в ту сторону, где закатывалось солнце. Холодно и равнодушно уронила она:
— Ну что ж, одолжите ему двенадцать тысяч рублей, так он выпутается. — И снова вперила в закат свои печальные голубые глаза.
Удивительное дело: эта избалованная девица знала даже, сколько нужно ее отцу, чтобы выпутаться. Она, быть может, знала и то, что, если б не отказала Вове Бурнесу, его отец, Авроом-Мойше, охотно дал бы эти деньги. Возможно, что она много об этом думала и оттого так легко и просто сказала: «Ну, что ж, одолжите ему двенадцать тысяч — он и выпутается».
А он, хромой студент Липкис, услышав эти слова, вспомнил вдруг свою мать-вдову, которой он вместе со старшим братом помогал, вспомнил и старое пальто, которое она принесла ему, когда он собирался с Миреле в уездный город и торопливо ковылял к коляске, где Миреле его ждала.
А Миреле — показалось ему тогда — сидя в экипаже, улыбалась и смотрела в сторону.
Отчего смотрела она в сторону? Оттого ли, что из города ехал мимо в своей бричке бывший жених ее? Или оттого, что этим старым пальто мать его по субботам всегда прикрывала стоящий в печи чолнт [4]?
Но ведь для этой изнеженной и себялюбивой девушки вообще ничего на свете не существовало, кроме ее собственной избалованной душеньки.
Липкис лишь теперь начал ясно это понимать и даже потом ставил ей это в укор в бесчисленных письмах, которых никогда не отправлял.
«Вообще, — писал он ей в одном из таких неотправленных писем, — разве вы в состоянии вникнуть своим эгоистическим сердцем хотя бы в положение расстроенного и подавленного горем отца, которого вы, взрослая девушка, без стеснения вдруг принимались целовать в присутствии целой кучи посторонних людей?»
В глухом безмолвии цепенел холодноватый воздух; первый снежок запорошил унылый городок и по-зимнему пустынную околицу.
Ни минуты не могла она теперь усидеть в родительском доме и все короткие дни напролет блуждала по окрестным занесенным снегом полям, где шаги ее и Липкиса оставляли следы на снегу. Странное производили они тогда впечатление: в холодных просторах, между мутным небом и белой от снега землей — двое людей, молчаливо блуждающих по раскинувшимся широко полям, лишь изредка перекидываясь каким-нибудь словом. Все вокруг овеяно было тишиной, тишиной кладбища — и одинокая крестьянская хатка под белой заметенной снегом крышей, и где-то в соседней долинке замерзший прудок; в разных углах горизонта дремали побледневшие рощи, глубоко ушедшие в снег; отсюда казались они какими-то новыми, необычайными и обманывали зрение человека, изредка проезжавшего на быстрых санках: «Что за диво? Неужели это дубовые рощи?»