Леда без лебедя
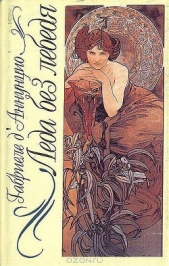
Леда без лебедя читать книгу онлайн
В сборник вошли лучшие произведения итальянского прозаика, драматурга и поэта конца XIX — начала XX веков Габриеле Д’Аннунцио (1863–1938), которые в свое время потрясли умы, шокировали общественную мораль и буквально «взорвали» мирную литературную Италию. Среди них — роман «Невинный» (1892), известный в нашей стране по знаменитому фильму Лукино Висконти; впервые переведенная на русский язык повесть «Леда без лебедя» (1916) — притча о внезапной страсти к таинственной незнакомке, о загадке ее роковой судьбы; своеобразное переложение Евангелия — «Три притчи прекрасного врага» (1924–1928), а также представленные в новых переводах рассказы.
Сост. В. В. Полев и Н. А. Ставровская; Авт. предисл. 3. М. Потапова.
На суперобложке использовано декоративное панно чешского художника А. Мухи «Изумруд».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Прийти к судье, сказать ему: «Я совершил преступление. Это бедное дитя не погибло бы, если бы я не убил его. Я, Туллио Эрмиль, я сам убил его. Задумал убийство в своем собственном доме. Совершил его с полной ясностью сознания, по заранее рассчитанному плану, в полнейшей безопасности. И после этого продолжал жить со своей тайной, в своем доме, целый год, до нынешнего дня. Сегодня — годовщина. И вот я — в ваших руках. Выслушайте меня. Судите меня». Могу ли я прийти к судье, могу ли я говорить с ним так?
Не могу и не хочу. Суд людской — не для меня. Никакой земной суд не мог бы судить меня.
И все же я должен обвинить себя, исповедаться. Я должен раскрыть кому-нибудь свою тайну.
Кому?
Вот первое воспоминание.
Это было в апреле. Уже несколько дней мы жили в деревне: я, Джулиана и наши две девочки, Мария и Наталья; мы проводили праздники Пасхи в доме моей матери, в большом, старом доме, в имении, называемом Бадиола. [3] Шел седьмой год нашего брака.
Прошло уже три года после другой Пасхи, ставшей для меня настоящим праздником прощения, мира и любви в этой белой и уединенной, как монастырь, вилле, пропитанной ароматом левкоев; Наталья, моя младшая дочь, только что вышедшая из пеленок, как цветок из завязи, начинала ходить, а Джулиана выказывала мне полную снисходительность, правда, с несколько меланхоличной улыбкой. Я вернулся к ней, раскаявшийся и покорный, после первой серьезной измены. Моя мать, ничего не знавшая, своими заботливыми руками прикрепила оливковую ветвь к изголовью нашей постели и снова наполнила святой водой маленькую серебряную кропильницу, висевшую на стене.
Но сколько перемен за эти три года! Между мной и Джулианой произошел окончательный и непоправимый разрыв. Число моих проступков по отношению к ней увеличивалось все более и более. Я оскорблял ее самым жестоким образом, без стеснения, без удержу, увлекаемый своей алчностью к наслаждениям, быстрой сменой своих увлечений, любопытством своего извращенного воображения. Я был любовником двух близких ее подруг. Жил несколько недель во Флоренции с Терезой Раффо, пренебрегая всякой предосторожностью. Дрался на дуэли с самозваным графом Раффо, после чего, благодаря стечению разных курьезных обстоятельств, мой злосчастный противник сделался общим посмешищем. И все это было известно Джулиане. И она страдала, но с необыкновенной гордостью, почти молча.
Разговоры между нами по этим поводам были весьма немногочисленны и кратки; объясняясь с нею, я никогда не лгал, думая искренностью уменьшить свою вину в глазах этой кроткой и благородной женщины, которую считал очень умной.
Я в свою очередь знал, что она признавала превосходство моего ума и отчасти извиняла извращения моей жизни не лишенными правдоподобия теориями, защищаемыми мною в противовес нравственным учениям, исповедуемым большинством людей только для виду. Уверенность, что она не будет судить меня, как обыкновенного человека, облегчала в моем сознании тяжесть моих заблуждений. «Ведь она, в конце концов, понимает, — думал я, — что я, будучи не похож на других людей и имея особенный взгляд на жизнь, могу, по справедливости, игнорировать обязанности, которые другим хотелось бы возложить на меня, могу, по справедливости, презирать мнение других и жить вполне искренно, согласно моему природному призванию».
Я был убежден не только в особенном призвании моего ума, но и в его исключительности; и думал, что эта исключительность моих ощущений и моих переживаний облагораживала, выделяла всякий мой поступок. Гордясь и чванясь этой исключительностью, я не был способен понимать идею жертвенности или самоотречения, как не был способен отказывать себе в выражении или проявлении своих желаний. Но в глубине всех этих тонкостей моей натуры лежал лишь страшный эгоизм, так как, пренебрегая обязанностями, я пользовался выгодами своего положения.
Мало-помалу, переходя от одного злоупотребления к другому, я и в самом деле добился для себя с согласия Джулианы первоначальной свободы, без лицемерия, без уверток, без унизительной лжи. Я изо всех сил старался оставаться во что бы то ни стало искренним, в то время как другие в подобных случаях прибегают к притворству. Пользовался всеми поводами, чтобы установить между мною и Джулианой новый договор братства, чистой дружбы. Она должна была быть моей сестрой, моим лучшим другом.
Моя единственная сестра, Костанца, умерла девяти лет от роду, оставив в моем сердце бесконечное сожаление. Часто, с глубокой тоскою думал я об этом маленьком существе, которое не могло еще предложить мне сокровищ своей нежности, сокровищ, казавшихся моему воображению неисчерпаемыми. Среди всех человеческих чувств, среди всех земных привязанностей любовь сестры всегда казалась мне самой возвышенной и утешительной. Я часто думал о великом утраченном утешении с печалью, которую непреложность смерти делала почти мистической. Где найти на земле другую сестру?..
Естественно, предметом этих сентиментальных чаяний стала Джулиана.
Относясь отрицательно к смешению различных чувств, она уже отказалась от всякой ласки, от малейшего проявления страсти. Да и я с некоторых пор не испытывал уже ни тени чувственного возбуждения вблизи нее: чувствуя ее дыхание, вдыхая ее запах, глядя на маленькое темное пятнышко у нее на шее, я оставался совершенно холодным. Мне казалось невозможным, что это та самая женщина, которая некогда бледнела и замирала в моих пылких и страстных объятиях.
Итак, я предложил ей свои братские чувства, и она приняла их, приняла просто. Когда она бывала печальна, мне становилось еще тяжелее при мысли, что мы похоронили нашу любовь навсегда, без надежды на ее воскрешение; при мысли, что наши уста, быть может, не сольются больше никогда, больше никогда… И в слепоте моего эгоизма мне казалось, что она должна хранить в своем сердце благодарность за эту печаль мою, которую я считал неизлечимой; и еще казалось мне, что она должна быть удовлетворена и утешена этой печалью, как отзвуком далекой любви.
Когда-то оба мы мечтали не только о любви, но и о страсти до самой смерти, usque ad mortem. Оба мы верили в нашу мечту и не раз, в опьянении, произносили два великих обманчивых слова: Вечно! Никогда! Кроме того, мы верили в сродство наших тел, в это необычайно редкое и таинственное сродство, связывающее два человеческих существа страшными узами ненасытного желания; мы верили в это потому, что острота наших чувств не уменьшилась даже тогда, когда, с рождением нами нового существа, таинственный Гений рода достиг при нашем посредстве своей единственной цели.
Иллюзии рассеялись; пламя страсти погасло. Душа моя (клянусь в этом) искренно плакала над руинами. Но как противиться необходимости? Как избежать неотвратимого?
Конечно, было великим счастьем, что после смерти нашей любви, благодаря роковому стечению обстоятельств и к тому же без вины кого-либо из нас, мы могли еще жить в одном и том же доме, сдерживаемые новым чувством, быть может, не менее глубоким, чем прежнее, но, конечно, более возвышенным и необыкновенным. Было великим счастьем, что новая иллюзия возникла взамен первоначальной и установила между нашими душами обмен чистых переживаний, нежных волнений, утонченных печалей.
Но на самом-то деле, какой цели достигала эта платоническая риторика? Добиться того, чтобы жертва, улыбаясь, шла на заклание.
На самом-то деле новая жизнь, не супружеская, а братская, всецело строилась на одном основании: на абсолютном самоотречении сестры. Я вновь возвращал себе свою свободу, мог искать новых острых ощущений, в которых чувствовали потребность мои нервы, мог влюбиться в другую женщину, надолго оставлять свой дом и вновь находить там ожидающую меня сестру, находить в моих комнатах явные следы ее забот, находить на моем столе вазу с розами, сорванными ее руками, находить всюду порядок, изящество и чистоту, словно в обители какой-нибудь Грации. Не завидно ли было мое положение? Не была ли особенно драгоценною женщина, соглашавшаяся пожертвовать для меня своей молодостью, довольствуясь пить благодарным и почти благоговейным поцелуем в гордый и нежный лоб?


























