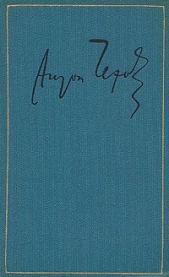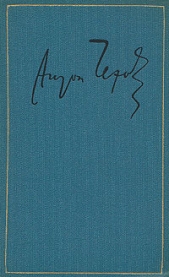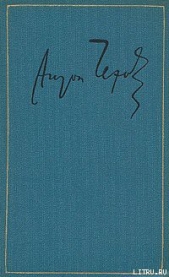Рассказы. Повести. 1894-1897
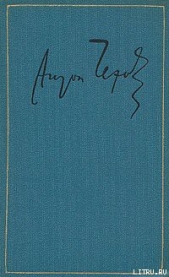
Рассказы. Повести. 1894-1897 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так как работы во флигеле не хватало и на одного, то Чепраков ничего не делал, а только спал или уходил с ружьем на плёс стрелять уток. По вечерам он напивался в деревне или на станции и перед тем, как спать, смотрелся в зеркальце и кричал:
– Здравствуй, Иван Чепраков!
Пьяный он был очень бледен и всё потирал руки и смеялся, точно ржал: ги-ги-ги! Из озорства он раздевался донага и бегал по полю голый. Ел мух и говорил, что они кисленькие.
IV
Как-то после обеда он прибежал во флигель, запыхавшись, и сказал:
– Ступай, там сестра твоя приехала.
Я вышел. В самом деле, у крыльца большого дома стояла городская извозчичья линейка. Приехала моя сестра, а с нею Анюта Благово и еще какой-то господин в военном кителе. Подойдя ближе, я узнал военного: это был брат Анюты, доктор.
– Мы к вам на пикник приехали, – сказал он. – Ничего?
Сестра и Анюта хотели спросить, как мне тут живется, но обе молчали и только смотрели на меня. Я тоже молчал. Они поняли, что мне тут не нравится, и у сестры навернулись слезы, а Анюта Благово стала красной. Пошли в сад. Доктор шел впереди всех и говорил восторженно:
– Вот так воздух! Мать честная, вот так воздух!
По наружному виду это был еще совсем студент. И говорил, и ходил он, как студент, и взгляд его серых глаз был такой же живой, простой и открытый, как у хорошего студента. Рядом со своею высокою и красивою сестрой он казался слабым, жидким; и бородка у него была жидкая, и голос тоже – жиденький тенорок, довольно, впрочем, приятный. Он служил где-то в полку и теперь приехал в отпуск к своим и говорил, что осенью поедет в Петербург держать экзамен на доктора медицины. У него уже была своя семья – жена и трое детей; женился он рано, когда еще был на втором курсе, и теперь в городе рассказывали про него, что он несчастлив в семейной жизни и уже не живет с женой.
– Который теперь час? – беспокоилась сестра. – Нам бы пораньше вернуться, папа отпустил меня к брату только до шести часов.
– Ох, уж ваш папа! – вздохнул доктор.
Я поставил самовар. На ковре перед террасой большого дома мы пили чай, и доктор, стоя на коленях, пил из блюдечка и говорил, что он испытывает блаженство. Потом Чепраков сходил за ключом и отпер стеклянную дверь, и все мы вошли в дом. Было здесь сумрачно, таинственно, пахло грибами, и шаги наши издавали гулкий шум, точно под полом был подвал. Доктор, стоя, тронул клавиши фортепиано, и оно ответило ему слабо, дрожащим, сиплым, но еще стройным аккордом; он попробовал голос и запел какой-то романс, морщась и нетерпеливо стуча ногой, когда какой-нибудь клавиш оказывался немым. Моя сестра уже не собиралась домой, а в волнении ходила по комнате и говорила:
– Мне весело! Мне очень, очень весело!
В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось невероятным, что у нее тоже может быть хорошо на душе. Это первый раз в жизни я видел ее такою веселою. Она даже похорошела. В профиль она была некрасива, у нее нос и рот как-то выдавались вперед и было такое выражение, точно она дула, но у нее были прекрасные темные глаза, бледный, очень нежный цвет лица и трогательное выражение доброты и печали, и когда она говорила, то казалась миловидною и даже красивою. Мы оба, я и она, уродились в нашу мать, широкие в плечах, сильные, выносливые, но бледность у нее была болезненная, она часто кашляла, и в глазах у нее я иногда подмечал выражение, какое бывает у людей, которые серьезно больны, но почему-то скрывают это. В ее теперешней веселости было что-то детское, наивное, точно та радость, которую во время нашего детства пригнетали и заглушали суровым воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу.
Но когда наступил вечер и подали лошадей, сестра притихла, осунулась и села на линейку с таким видом, как будто это была скамья подсудимых.
Вот они все уехали, шум затих… Я вспомнил, что Анюта Благово за всё время не сказала со мною ни одного слова.
«Удивительная девушка! – подумал я. – Удивительная девушка!»
Наступил Петровский пост, и нас уже каждый день кормили постным. От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбе и только ждал подходящего настроения, чтобы уйти.
Как-то перед вечером, когда у нас во флигеле сидел Редька, неожиданно вошел Должиков, сильно загоревший и серый от пыли. Он три дня пробыл на своем участке и теперь приехал в Дубечню на паровозе, а к нам со станции пришел пешком. В ожидании экипажа, который должен был прийти из города, он со своим приказчиком обошел усадьбу, громким голосом давая приказания, потом целый час сидел у нас во флигеле и писал какие-то письма; при нем на его имя приходили телеграммы, и он сам выстукивал ответы. Мы трое стояли молча, навытяжку.
– Какие беспорядки! – сказал он, брезгливо заглянув в ведомость. – Через две недели я перевожу контору на станцию и уж не знаю, что мне с вами делать, господа.
– Я стараюсь, ваше высокородие, – проговорил Чепраков.
– То-то, вижу, как вы стараетесь. Только жалованье умеете получать, – продолжал инженер, глядя на меня. – Всё надеетесь на протекцию, как бы поскорее и полегче faire la carrière. [38] Ну, я не посмотрю на протекцию. За меня никто не хлопотал-с. Прежде чем мне дали дорогу, я ходил машинистом, работал в Бельгии как простой смазчик-с. А ты, Пантелей, что здесь делаешь? – спросил он, повернувшись к Редьке. – Пьянствуешь с ними?
Он всех простых людей почему-то называл Пантелеями, а таких, как я и Чепраков, презирал и за глаза обзывал пьяницами, скотами, сволочью. Вообще к мелким служащим он был жесток и штрафовал, и гонял их со службы холодно, без объяснений.
Наконец, приехали за ним лошади. Он на прощанье пообещал уволить всех нас через две недели, обозвал приказчика болваном и затем, развалившись в коляске, покатил в город.
– Андрей Иваныч, – сказал я Редьке, – возьмите меня к себе в рабочие.
– Ну, что ж!
И мы пошли вместе по направлению к городу. Когда станция и усадьба остались далеко за нами, я спросил:
– Андрей Иваныч, зачем вы давеча приходили в Дубечню?
– Первое, ребята мои работают на линии, а второе – приходил к генеральше про́центы платить. Летошний год я у нее полсотню взял и плачу теперь ей по рублю в месяц.
Маляр остановился и взял меня за пуговицу.
– Мисаил Алексеич, ангел вы наш, – продолжал он, – я так понимаю, ежели какой простой человек или господин берет даже самый малый про́цент, тот уже есть злодей. В таком человеке не может правда существовать.
Тощий, бледный, страшный Редька закрыл глаза, покачал головой и изрек тоном философа:
– Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу. Господи, спаси нас грешных!
V
Редька был непрактичен и плохо умел соображать; набирал он работы больше, чем мог исполнить, и при расчете тревожился, терялся и потому почти всегда бывал в убытке. Он красил, вставлял стекла, оклеивал стены обоями и даже принимал на себя кровельные работы, и я помню, как он, бывало, из-за ничтожного заказа бегал дня по три, отыскивая кровельщиков. Это был превосходный мастер, случалось ему иногда зарабатывать до десяти рублей в день, и если бы не это желание – во что бы то ни стало быть главным и называться подрядчиком, то у него, вероятно, водились бы хорошие деньги.
Сам он получал издельно, а мне и другим ребятам платил поденно, от семидесяти копеек до рубля в день. Пока стояла жаркая и сухая погода, мы исполняли разные наружные работы, главным образом красили крыши. С непривычки моим ногам было горячо, точно я ходил по раскаленной плите, а когда надевал валенки, то ногам было душно. Но это только на первых порах, потом же я привык, и всё пошло, как по маслу. Я жил теперь среди людей, для которых труд был обязателен и неизбежен и которые работали, как ломовые лошади, часто не сознавая нравственного значения труда и даже никогда не употребляя в разговоре самого слова «труд»; около них и я тоже чувствовал себя ломовиком, всё более проникаясь обязательностью и неизбежностью того, что я делал, и это облегчало мне жизнь, избавляя от всяких сомнений.