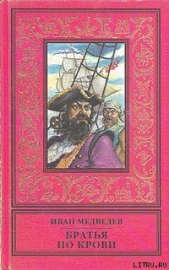Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен

Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен читать книгу онлайн
В истории французского реалистического романа второй половины XIX века братья Гонкуры стоят в одном ряду с такими прославленными писателями, как Флобер, Золя, Доде, Мопассан, хотя их литературный масштаб относительно скромнее. Лучшие их произведения сохраняют силу непосредственного художественного воздействия на читателя и по сей день. Роман «Жермини Ласерте», принесший его авторам славу, романы «Братья Земганно», «Актриса Фостен», написанные старшим братом — Эдмоном после смерти младшего — Жюля, покоряют и ныне правдивыми картинами, своей, по выражению самих Гонкуров, «поэзией реальности, тончайшей нюансировкой в описании человеческих переживаний».
Вступительная статья — В.Шор.
Примечания — Н.Рыков.
Перевод с французского — Э.Линецкая, Е.Гунст, Д.Лившиц.
Иллюстрации — Георгий, Александр и Валерий (Г.А.В.) Траугот.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом мадемуазель начинала возмущаться собственной чувствительностью и обзывала себя старой дурой. Прямой, непреклонный характер, строгость правил и суровость оценок, порожденные безупречной жизнью, все, что побуждает честную женщину осуждать девку, а святую, какой была мадемуазель де Варандейль, побуждало вынести безжалостный приговор Жермини, — все это восставало в ней против прощения. Кодекс морали кричал: «Никогда! Никогда!» — заглушая природную доброту. Решительным жестом она отстраняла от себя презренный образ служанки.
Порою, стараясь бесповоротно осудить и изгнать навеки из сердца образ Жермини, мадемуазель возводила на нее напраслину, клеветала, преувеличивала ее грехи. Она добавляла новые ужасы к страшному наследию покойницы, упрекала в том, в чем та была безвинна, приписывала ей черноту души, таившей преступные замыслы, нетерпеливую жажду убийства. Мадемуазель заставляла себя думать, что Жермини хотела ее смерти, торопила эту смерть.
Но даже в минуты самых безотрадных подозрений и мыслей перед ней вставало видение, которое становилось все отчетливей. Словно притянутый ее взглядом, к ней приближался призрак, которого она не могла ни одолеть, ни оттолкнуть: то был призрак Жермини в гробу. Она снова видела анатомический театр и эту голову, это лицо распятой, лицо мученицы, на котором запечатлелась скорбь исходящего кровью сердца. Она видела ее душу, которую умеет извлечь из плотской оболочки второе зрение, даруемое нам памятью. И чем внимательней вглядывалась мадемуазель в это лицо, тем менее страшным оно ей казалось. Постепенно освобождаясь от обезображивающей печати ужаса, это мертвое лицо выражало лишь страдание, страдание искупления, раскаянья, непролитых слез, и все больше и больше смягчалось. Под конец мадемуазель начинала различать в нем только мольбу о пощаде, которая не могла не трогать ее милосердия. Незаметно в думы старой девы вкралось столько снисхождения, столько желания оправдать, что она сама себе удивлялась. Она спрашивала себя, можно ли судить эту несчастную женщину так же сурово, как других, действительно ли она по собственной воле избрала путь порока или же жизнь, обстоятельства, требования плоти и судьба сделали из нее то, чем она стала, отдали во власть любви и горя… Потом усилием воли она пресекла эти мысли, чувствуя, что готова простить.
Однажды утром она соскочила с постели.
— Эй вы, как там вас! — крикнула она служанке. — Черт бы побрал ваше имя, я всегда его забываю! Скорее давайте мне платье! У меня дела в городе.
— Помилуйте, мадемуазель… взгляните на крыши… они совсем белые.
— Что же из того? Идет снег, вот и все.
Через десять минут мадемуазель сказала кучеру фиакра:
— На Монмартрское кладбище.
LXX
Вдали тянулась ограда, прямая, нескончаемая. Опушка снега поверху подчеркивала ее ржаво-грязный цвет. В левом углу три обнаженных дерева вздымали к небу черные сухие ветви. Холодный ветер гнул их, и они шуршали печально, как валежник. За деревьями, по ту сторону ограды и вплотную к ней, высился столб с перекладиной; с нее свешивался один из последних в Париже масляных фонарей. Кое-где редкими пятнами белели крыши; склон Монмартрского холма был одет снежным саваном в грязных заплатах песка и земли. Чахлые облетевшие деревья, лиловатые в тумане, поднимались из-за низеньких серых оград, взбегавших по откосу к двум черным ветряным мельницам. Свинцово-тяжелое небо было окрашено в холодные синеватые тона, точно на него плеснули чернилами; над самым Монмартром зиял просвет в облаках, откуда лились лучи зимнего солнца, желтые, как воды Сены после сильных дождей. Этот просвет все время прорезали крылья невидимой мельницы, медлительные, двигавшиеся с неумолимой равномерностью, словно они вращали вечность.
У самой ограды, к которой жались кипарисы, засохшие и порыжелые от изморозей, была обширная площадка; ее пересекали, подобно двум похоронным процессиям, две колонны крестов, тесно поставленных, прижатых друг к другу, покосившихся, опрокинутых. Эти кресты толкались, подгоняли один другого, наступали передним на пятки. Они кренились, падали и, падая, ломались. В середине как бы образовалась свалка, и некоторым пришлось податься в сторону; они были почти скрыты сугробами, и только их тяжелые деревянные верхушки чуть приподнимали снег на тропинках, идущих вдоль обеих колонн и уже слегка притоптанных посредине. Неровные ряды покачивались из стороны в сторону, как покачиваются человеческие беспорядочные толпы во время длинных переходов. Черные кресты с раскинутыми руками были похожи и на привидения, и на скорбящих людей. Эти расстроенные колонны наводили на мысль о катастрофе, о потерпевших поражение испуганных солдатах, о паническом, безоглядном бегстве…
На всех крестах висели венки из бессмертников, венки из белых с серебром и черных с золотом бумажных цветов; на фоне снега было видно, что все они изорваны, измяты снизу, страшны, как воспоминания, от которых отказались другие мертвецы, собраны здесь лишь для того, чтобы хоть немного украсить эти могилы отбросами других могил.
На каждом кресте белой краской было написано имя; впрочем, попадались и такие могилы, где вместо крестов стояли сломанные ветки, на которых болтались привязанные веревочками бумажки.
Слева, где рыли канаву для третьего ряда крестов, черные комья взлетали в воздух под лопатой рабочего и ударялись о белую насыпь. Глубокое сумрачное молчание земли, укутанной снегом, нарушалось лишь приглушенным стуком падающих земляных комьев да тяжелым мерным стуком шагов: то старенький священник в черной накидке с черным капюшоном, в черной епитрахили и в грязном пожелтевшем стихаре старался, пока не прибыла погребальная процессия, согреться, топая большими галошами по мощеной дороге, проходившей перед колоннами крестов.
Да, это была общая могила. Площадка, кресты, священник как бы говорили: здесь место успокоения простого народа, здесь небытие бедняка.
О Париж, сердце мира, великий человеческий город, город братского сострадания! Ты кроток духом, твои обычаи исполнены векового милосердия, развлекаясь, ты не забываешь о милостыне. Бедняк равно твой гражданин, как и богач. Твои церкви говорят о Христе, законы — о равенстве, газеты — о прогрессе, все твои правительства — о народе. И вот, Париж, куда ты сваливаешь тех, кто умирает, служа тебе, губит себя, созидая твой блеск, чахнет от болезней на твоих фабриках, капля за каплей отдает силы на то, чтобы поддерживать твое благоденствие, веселье, роскошь, оживление и шум, вплетает звенья своей жизни в длинную цепь твоего существования, составляет толпу на твоих улицах и, будучи народом, творит твое величие! На каждом из твоих кладбищ есть укрытый под стеной постыдный угол, где ты торопишься погрести их, так скудно засыпая землею, что гробы остаются неприкрытыми. Кажется, будто твое милосердие исчерпывается с их последним вздохом, что gratis [27]ты даешь им только ложе страданий, что, после того как они умирают в больнице, у тебя, такого огромного и могучего, уже нет для них места! Ты наваливаешь, смешиваешь, нагромождаешь мертвых под землю, как сто лет назад нагромождал под больничными простынями, когда они агонизировали. Еще вчера у тебя не было даже этого деловитого священника, проливающего на любую могилу несколько капель освященной воды: эти люди не были удостоены молитвы. Простейшее приличие — и то не соблюдалось: бог не желал беспокоиться ради них. Но могила, которую благословляет сегодня священник, не изменилась: это по-прежнему дыра, где сосновые доски ударяются друг о друга, где мертвецы не у себя дома. Здесь тление не отдельное на каждого, а общее, одно для всех — вечный обмен червями! Здесь почва ненасытна, здесь Монфокон [28]торопится в катакомбы! Ибо этим мертвецам отпущено для гниения так же мало времени, как и пространства: у них отнимают землю прежде, чем она кончит свое дело, прежде, чем их кости приобретут окраску и как бы древность камня, прежде, чем годы уничтожат все, что в них было человеческого, уничтожат воспоминание о плоти. Здесь очистку производят тогда, когда влажный земляной покров — это еще они, когда лопата вонзается еще в них… Им дают землю? Но ее не хватает даже на то, чтобы скрыть, заглушить запах смерти: ветер, пролетая летом над этой свалкой незарытых мертвецов, подхватывает и уносит с собой к городу живых нечистые миазмы. В раскаленные августовские дни сторожа не пускают сюда посетителей: здесь летают мухи, ядовитые, гнилостные, смертоносные мухи.