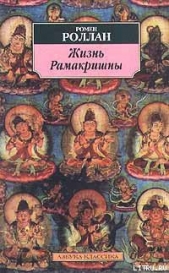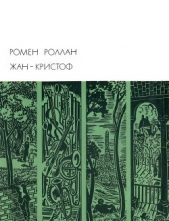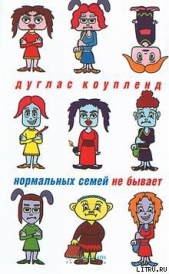Жан-Кристоф. Книги 6-10

Жан-Кристоф. Книги 6-10 читать книгу онлайн
Роман Ромена Роллана "Жaн-Кристоф" вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.
Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя "c чистыми глазами и сердцем". Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.
Во второй том вошли книги шестая — десятая.
Перевод с французского Н. Касаткиной, В. Станевич, С. Парнок, М. Рожицыной.
Вступительная статья и примечания И. Лилеевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы держитесь за жанры, которые созданы не для вас, и не делаете ничего, что соответствует вашему гению. Вы — народ, рожденный для изящного, для светской поэзии, для красоты жестов, движений, поз, моды, одежды, а у вас больше не пишут балетов, тогда как могли бы создать неподражаемое искусство поэтического танца. Вы — народ умного смеха, а вы больше не пишете комических опер или предоставляете этот жанр самым низкопробным музыкантам. Ах, будь я французом, я бы оркестровал Рабле, творил бы эпопеи-буфф… У вас лучшие в мире романисты, а вы не сочиняете романов в музыке (ибо фельетоны Гюстава Шарпантье я таковыми не считаю). Вы не используете свой дар психологического анализа, проникновения в характеры. Ах, будь я французом, я бы писал музыкальные портреты! Хочешь, я сделаю тебе набросок с той девушки, которая сидит вон там в саду под сиренью? Я бы переложил Стендаля для струнного квартета. Вы — первая демократия в Европе, и у вас нет народного театра, нет народной музыки. Ах, будь я французом, я бы переложил на музыку вашу Революцию: четырнадцатое июля, десятое августа {38}, Вальми {39}, Федерацию {40}, я всю жизнь народную переложил бы на музыку! Нет, конечно, не в фальшивом стиле Вагнеровых декламаций. Я хочу симфоний, хоров, танцев. Никаких речей! Хватит с меня. Молчите, слова! Писать широкими мазками огромные симфонии с хорами, необъятные пейзажи, гомеровские и библейские эпопеи, землю, огонь, воду, сияющее небо, жар сердец, зов инстинктов, судьбы целого народа, утверждать торжество Ритма, этого властителя вселенной, который подчиняет себе миллионы людей и гонит их армии на смерть… Музыка всюду, музыка во всем. Будь вы музыкантами, у вас была бы особая музыка для каждого вашего общественного празднества, для ваших официальных церемоний, для ваших рабочих корпораций, для ваших студенческих союзов, семейных торжеств. Но прежде всего, будь вы музыкантами, вы писали бы чистую музыку, музыку, которая ничего не хочет сказать, музыку, которая годится только на то, чтобы согревать душу, облегчать дыхание, жизнь. Создавайте солнце! Sat prata! [20] (Кажется, так по-латыни?) Довольно с вас дождей. У меня насморк делается от вашей музыки. Света не видно: пора опять зажечь фонари… Вы теперь жалуетесь на итальянские porcherie [21], которые наводняют ваши театры, переманивают вашу публику и выгоняют вас из вашего собственного дома! А кто виноват? Публика устала от вашего сумеречного искусства, от ваших неврастенических гармоний, от вашего педантического контрапункта. Она идет туда, где жизнь — пусть самая грубая, но жизнь! Почему вы отстраняетесь от нее? Ваш Дебюсси — большой мастер, но он вреден вам. Он еще больше убаюкивает вас. А вас нужно хорошенько встряхнуть.
— Ты хочешь навязать нам Штрауса?
— Отнюдь. Он бы вас окончательно разрушил. Нужно иметь желудок моих соотечественников, чтобы переварить его излишества. И даже они не выдерживают их. «Саломея» Штрауса {41}! Действительно, шедевр!.. Не хотел бы я быть ее автором! Я вспоминаю, как мой бедный дедушка и дядя Готфрид рассказывали мне с почтением и трогательной любовью о прекрасном искусстве звуков! Владеть этими божественными силами и так злоупотребить ими! Метеор, поджигающий дома! Изольда в образе еврейской проститутки! Мучительная и скотская похоть, жажда убийства, насилия, порока, преступлений — вот угроза, которая таится в бездне германского декадентства! А у вас — в вашем французском декадентстве — спазмы сладострастного самоубийства. У нас — зверь, у вас — добыча! Где же человек?.. Ваш Дебюсси — гений хорошего вкуса; Штраус — дурного. Первый очень слащав. Второй очень неприятен. Первый — это серебристый пруд, заросший осокой и издающий тлетворный аромат, второй — грязный поток. Ах, как он отдает низкопробной итальянщиной и неомейерберовщиной; какие отбросы чувств несет эта пена! Гнусный шедевр! Саломея, дочь Изольды… Интересно, чьей матерью станет Саломея?
— Да, — сказал Оливье, — я хотел бы жить на полвека позднее. Ведь конь мчится к пропасти, и это должно так или иначе кончиться, остановится ли он или сорвется вниз. Тогда мы вздохнем свободно. К счастью, земля не перестанет цвести, будет музыка или ее не будет. На что нам это бесчеловечное искусство? Запад сжигает себя. Скоро… Скоро… Я вижу другие огни, они поднимаются из глубин Востока.
— Ах, оставь, пожалуйста, твой Восток! — сказал Кристоф. — Запад еще не сказал своего последнего слова. Напрасно ты думаешь, что я от него отрекаюсь! С меня хватит еще на века. Да здравствует жизнь! Да здравствует радость! Да здравствует битва с нашей судьбой! Да здравствует любовь, от которой ширится сердце! Да здравствует дружба, которая согревает нашу веру, — дружба, которая сладостнее любви! Да здравствует день! Да здравствует ночь! Слава солнцу! Laus Deo [22], богу мечты и действия, богу, сотворившему музыку! Осанна!
Тут он сел за свой стол и начал записывать все, что приходило ему в голову, уже забыв свою длинную речь.
В ту пору Кристоф был в полном расцвете и равновесии всех своих сил и способностей. Он мало придавал значения эстетическим спорам о ценности той или иной музыкальной формы и рассудочным поискам нового; ему даже не приходилось делать никаких усилий, чтобы находить сюжеты для своей музыки. Все годилось. Поток музыки лился непрерывно, и Кристоф даже не знал, какие именно чувства он выражает. Он был счастлив — вот и все, счастлив оттого, что мог излить себя в этом потоке, счастлив, что слышит в себе биение вселенской жизни.
Эта радость, эта душевная полнота сообщались и окружающим.
Дом, с огороженным со всех сторон садиком, был тесен для Кристофа. Правда, из сада калитка вела в монастырский парк с широкими аллеями и вековыми деревьями; но все это было прекрасно, слишком прекрасно, и долго это длиться не могло. Как раз напротив его окна строился шестиэтажный дом, который должен был скоро все заслонить и окончательно замуровать Кристофа. Он имел удовольствие слышать каждый день с утра до вечера, как скрежещут блоки, как рабочие долбят камень, прибивают доски. Он вскоре обнаружил здесь своего приятеля — кровельщика, с которым некогда познакомился на крыше. Они издали обменивались кивками, выражавшими взаимное расположение. Встретив его однажды на улице, Кристоф даже повел кровельщика в винный погребок, где они вместе выпили, чем Оливье был весьма озадачен и даже несколько шокирован. А Кристофа забавлял смешной жаргон кровельщика, его неистощимое благодушие. Тем не менее он проклинал и своего знакомца, и всю компанию этих муравьев, возводивших перед ним заслон, который лишал его дневного света. Оливье не жаловался: он готов был довольствоваться и стенами вместо горизонта, — это напоминало ему печь Декарта, откуда стесненная мысль тем стремительнее рвется в свободные небеса. Но Кристофу необходим был воздух. Зажатый в этом тесном углу, он тем охотнее общался с окружавшими его людьми. Он впивал в себя их души, перекладывал на музыку. Оливье уверял, что Кристоф похож на влюбленного.
— Ах, если бы это было так! — отвечал Кристоф. — Я бы ничего не видел, ничем бы не интересовался, кроме моей любви.
— Тогда что же с тобой?
— Просто я здоров, и у меня прекрасный аппетит.
— Какой ты счастливый, Кристоф, — вздыхал Оливье. — Уступи нам хоть немного своего аппетита.
Здоровье так же заразительно, как и болезнь. И Оливье на себе испытал этот благодетельный закон. Именно силы ему больше всего и не хватало. Он удалялся от общественной жизни, потому что ее грубость и вульгарность возмущали его. При широком уме и незаурядных художественных данных он был слишком утончен, чтобы стать большим мастером. Крупные художники не испытывают отвращения к жизни; основной закон для каждого здорового существа — это воля к жизни; и когда это существо — гений, она особенно могущественна, ибо гений живет гораздо интенсивнее обыкновенного человека. Оливье бежал от жизни, предпочитая плавать в море поэтических вымыслов, бестелесных, бесплотных, нереальных; он принадлежал к числу тех представителей избранной интеллигенции, которые в поисках красоты устремляются либо в далекое прошлое, либо в царство фантазии! Как будто волшебный напиток жизни не был сегодня таким же опьяняющим, каким был когда-то! Но усталые души избегают непосредственного соприкосновения с жизнью; они терпят ее, только когда она укрыта туманом миражей, созданных отдаленностью прошлого и отзвучавшими словами тех, кто давно исчез. Дружба Кристофа помогала Оливье выбраться из мрачного преддверия искусства. И солнце уже проникало в темные закоулки его души.