В ногу!
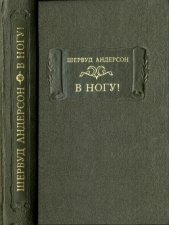
В ногу! читать книгу онлайн
В романе Андерсона, шокировавшем современников эмоциональным накалом и экзотичностью идей, проявилось психологическое состояние автора — преуспевающего бизнесмена, стоящего на пороге разрыва со своей карьерой и респектабельной жизнью.
Автор посвятил эту книгу американскому рабочему классу.
Перевод с английского М. Г. Волосова, дополненный и исправленный Е. М. Салмановой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Толедо мы оставались недолго и почти сразу переехали в Коламбус, столицу штата, где нас отчислили из местных воинских частей и записали в солдаты национальной армии [69].Гражданская война кое-чему научила. Среди нас не было бойцов трехмесячной службы, бойцов стодневной службы [70]. Нам предстояло вступить в армию на все время войны.
Это было уже не так празднично. У большинства из нас отцы сражались на Гражданской войне, а Гражданская война тянулась годами. Думаю, мы все слегка струхнули. Мой собственный отец был солдатом, и я слышал множество рассказов о кровавой резне и побоищах. Когда пришло время снова зачисляться в армию, но уже не в местную роту и не для того, чтобы получить военную форму и маршировать летним вечером по сельским улицам на глазах у девчонок городка, а чтобы отправиться на реальную войну, без оркестров, без объятий женщин, называющих нас героями, — мы все несколько приуныли.
Вечером накануне нового зачисления мы собрались на улице. Стояли и смотрели друг другу в глаза. Мы не были призывниками. Если бы мы передумали идти на войну, никто бы не мог нас заставить.
Наш лагерь был раскинут в широком поле, и теперь мы собрались небольшими группами между палаток и тихо переговаривались. Я вышел из лагеря на открытое пространство под звездами. Дома мой отец и старшая сестра уже сказали свое слово, умоляя меня отказаться от службы.
То, что мой отец был когда-то таким же дураком, казалось, не имело значения.
Значение имело нечто другое. Уходя на войну, я уклонялся от определенной ответственности. Мои домашние нуждались в тех грошах, которые я, работая, мог им посылать. Сестра указала мне на это, глядя холодными глазами.
Это происходило у нас, в маленьком рыжем доме, в рабочем квартале. Оркестров там не было.
— Значит, ты не посоветовался ни с кем из нас. Ты бросил работу.
Матери не было в живых. Сестра старалась протащить через школу двух наших младших братьев, и как раз в это время отец сидел без работы.
— Туда рвется столько других. Тебе-то зачем? Ты ведь знаешь, как мы нуждаемся в том немногом, что ты нам присылаешь.
Я ничего не ответил и поспешил от нее отделаться.
«Что может женщина понимать в моих чувствах?» — спрашивал я себя. Мне приходилось признать то, что признавать я не хотел. Когда я, поддавшись внезапному порыву, оставил работу в большом городе и поспешил домой, наша газета назвала брошенную мной должность «доходным местом», отметив меня как особого героя, но так ли это было на самом деле? На самом деле я был счастлив избавиться от этого места. Я работал на огромном холодном складе, где хранились бочонки с яблоками.
Я работал в одном из огромных ледяных помещений с тремя или четырьмя другими чернорабочими, и работа была тяжелой. Они все были крепко сбитыми сильными спокойными парнями, а я нет. Они были поляками и говорили на странном языке, и я неделями ходил полубольной от переутомления и одиночества [71].
Мы работали там по десять часов в сутки, и работа была для меня невыносимой.
Я не бросал ее из гордости.
«Теперь я мужчина и должен работать как мужчина. Мне нельзя отступать», — твердил я себе.
Вечерами я возвращался в комнатенку в доме, хозяин которого долгое время жил у нас в городке [72], — комнатенку, которую снял именно у него, потому что в огромном Чикаго был так одинок. Экономя на трамвайном билете, я несколько миль тащился пешком.
Я был полон решимости пробиться в этом мире.
«Мне необходимо выучиться», — говорил я себе. По соседству с домом, где я жил, на Чикаго Вест Сайд, находилась вечерняя школа, заведение под названием Институт Льюиса, и я начал туда ходить [73]. Я видел клерков, «белых воротничков», сидящих в нашей складской конторе, и хотел стать таким же. Я попытался изучать бухгалтерию и счетоводство, но безуспешно. Вернувшись вечером со своего склада, я надевал единственный «воскресный» костюм, привезенный мной из дома, и шел в школу.
Там было тепло, а я весь день мерз. Я садился за парту, но тут же голова моя падала, и я засыпал. Учитель, молодой мужчина, подходил и будил меня.
— Иди-ка лучше домой спать, — говорил он, улыбаясь, и предлагал мне прийти завтра. Наверное, он думал, что накануне я поздно вернулся с какой-нибудь веселой пирушки. «Это тебе не место для спанья», — говорил он, и я, спотыкаясь, выходил из класса и тащился в дом своего земляка, ставшего теперь городским человеком. Я падал в постель. Я лежал в постели и плакал. «Все без толку, — говорил я себе. — Я никогда не пробьюсь. Все останется как сейчас, всю мою жизнь, и скоро я стану старым и сгорбленным». Я вставал с постели и, схватив перо и бумагу, писал девочке, которую оставил. Я изливал ей свою тоску, но писем не отправлял. «Если она узнает правду, то никогда не напишет мне», — думал я и снова плакал.
Была у всего этого и другая сторона. Я не слишком-то честно обошелся с сестрой, со своими домашними. Я не знал, что мне делать. К тому же я сознавал, что на войне рискую быть раненным, искалеченным или убитым, а я был молод и ничего этого отнюдь не хотел. На складе в Чикаго мой начальник сказал, как говорят в таких случаях, что мое место будет свободно до тех пор, пока я не вернусь с полей сражений, и я тут же подумал: «Не слишком-то радостная перспектива».
Своей сестре я не сказал об этом ничего или почти ничего. «Разве женщина может понять?» — думал я. Правдой было и то, что моя сестра, единственная девочка в мальчишеской семье, тоже когда-то мечтала пробиться. Она хотела закончить школу, стать учительницей, но отказалась от этой мечты. Тем вечером в Коламбусе, когда я вышел за пределы лагеря и стоял один под звездами, я должен был ответить на тот самый ужасный вопрос:
— Идти или не идти? Быть или не быть?
В тот вечер мне казалось, что вся моя жизнь, ее узор и форма, зависят от моего выбора. Я принял решение. Я пошел обратно к палаткам, и в тот самый момент вокруг закричали, и я понял, что кричу вместе со всеми.
— Я не трус, не отступник, не ренегат.
— И я нет.
— И я.
Ни страха, ни тоски больше не было. «Плевать! Разумеется, мы идем!» — кричали мы. Мы стали резвиться между палатками, под звездами. Мы хлопали друг друга по плечу.
— И ты, и ты, и ты?
— И я.
— Ура!
Вскоре, однако, выяснилось, что среди нас нашлось двое или трое таких, кто решил не идти, и мы пришли в негодование.
— Это позор для нашего города, — возмущались мы, и я вполне уверен, что мой осуждающий голос был самым громким. От злости на других становилось легче. Я присоединился к гневным выкрикам.
Те, кто не хотел идти на войну, были теперь окружены. Мы допрашивали их, и они оправдывались.
— У меня дома есть работа. Моим нужны деньги, что я приношу.
Это говорил сын фермера. Он сказал, что его отец болен. Покалечен, его ударила лошадь.
— Мне надо идти домой, поддерживать хозяйство, — сказал он.
Но мы, остальные, теперь сбились в стаю. Раздались гневные выкрики, которые я поддержал:
— Бей их! Подонки!
Они скрылись в своих палатках, но мы выволокли их наружу. Мы их избили. Четверо из нас схватили самого низкорослого и оттащили в сторону, под деревья. Каждый взял его за руку или за ногу. Мы били его ягодицами о ствол. Он кричал от боли. Пока это длилось, никто из тех, кто собирался домой, особенно не сопротивлялся, и никто из наших офицеров не вмешивался; мы остановились лишь тогда, когда вся их одежда была изодрана, а тела покрыты кровоподтеками. Наши жертвы уползли обратно в свои палатки, и мы, остальные, снова собрались в группы.
— Если я когда-нибудь буду таким подонком… — сказали мы. Каждый из нас чувствовал, что доказал свое мужество, и на следующий день мы отправились и строем записались на войну.























